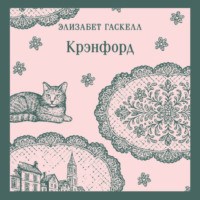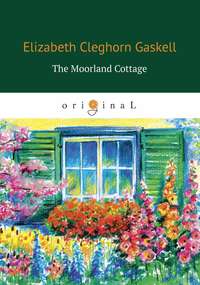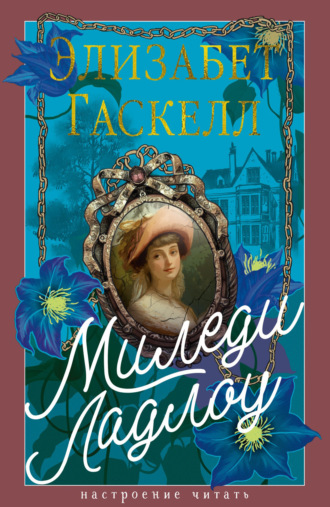
Полная версия
Миледи Ладлоу

Элизабет Гаскелл
Миледи Ладлоу
Elizabeth Gaskell
MY LADY LUDLOW
Перевод с английского Наталии Роговской
© Н. Ф. Роговская, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®
* * *Глава первая
Я стара, и жизнь вокруг изменилась – все не так, как было во времена моей молодости. В ту пору, если вам предстоял дальний путь, вы пользовались дилижансом, рассчитанным на шестерых пассажиров, и за два дня преодолевали расстояние, которое преодолевают теперь за два часа: не успеешь опомниться, как ты уже прибыл на место, оглохший от паровозного свиста. В ту давнюю пору письма приходили не чаще трех раз в неделю (до некоторых уголков Шотландии, куда я ездила в детстве, почта добиралась раз в месяц), но то были письма, а не писульки! Мы дорожили ими, читали и перечитывали, заучивали наизусть, словно главы из книги любимого автора. А нынче нам дважды в день доставляют ворох куцых записок, часто без начала и конца, где все содержание сводится к одной отрывистой фразе, какую благовоспитанный человек даже в устной речи счел бы дурным тоном. Не знаю, не знаю… Возможно, эти перемены к лучшему, не мне судить; но теперь вы не встретите людей, подобных леди Ладлоу.
Попытаюсь рассказать вам о ней, но не ждите истории в настоящем смысле слова: здесь нет ни начала, ни середины, ни конца – как у тех упомянутых мною записок.
Мой отец был бедный священник, обремененный многодетной семьей; про мать же всегда говорили, что она «из благородных». И когда ей хотелось напомнить о своем происхождении тем, кто волею судьбы ее окружал – в первую голову богатым фабрикантам-демократам, поборникам свобод и французской революции, – она надевала манжеты с рюшами из старинного английского кружева, штопаного-перештопаного, разумеется, ибо искусство его изготовления к тому времени было утрачено и достать новое кружево того же качества не представлялось возможным ни за какие деньги. По словам матери, кружевные манжеты свидетельствовали о том, что ее предки были «кем-то» еще в те времена, когда предки нынешних богатеев, поглядывавших на нее сверху вниз, были «никем» (если были вообще). Не знаю, кто еще, кроме членов нашей семьи, придавал значение ее великолепным рюшам, однако нас с раннего детства приучали испытывать чувство гордости и высоко нести голову, как подобает отпрыскам благородной леди, обладательницы фамильного кружева. При этом отец постоянно внушал нам, что гордыня – великий грех, и нам возбранялось гордиться чем-либо, помимо маминых кружевных манжет; но она, надевая их со своим поношенным, ветхим платьем в качестве единственного украшения, так простодушно радовалась, бедняжка, что я и теперь, после всех испытаний и уроков жизни, благодарю Бога за эти рюши.
Вы полагаете, верно, что я отвлеклась и совсем позабыла про миледи Ладлоу. Это не так. Первой обладательницей старинного кружева была знатная дама по имени Урсула Хэнбери – общая прародительница моей матушки и леди Ладлоу. Когда после смерти нашего отца мама осталась с девятью детьми на руках и не знала, у кого ей искать помощи, леди Ладлоу прислала письмо, в котором изъявляла готовность поддержать овдовевшую родственницу. Я как сейчас вижу это послание: большой лист плотной желтой бумаги, слева оставлено широкое ровное поле, а дальше тянутся строки, написанные изящным, убористым «итальянским» почерком. (В отличие от практикуемых ныне размашистых и беглых «мужских» почерков, он позволял уместить на том же бумажном пространстве намного больше содержания.) Письмо было запечатано сургучом с фамильным гербом в ромбовидном обрамлении, ибо к тому времени леди Ладлоу давно овдовела. Мама указала нам на девиз «Foy et Loy»[1] и объяснила, где найти расшифровку составных частей герба рода Хэнбери, – сделать это полагалось прежде, чем она вскроет конверт. По-моему, она просто тянула время, страшась увидеть очередной отказ. Тревога о судьбе любимых чад, потерявших кормильца, заставила ее разослать множество писем. И хотя серьезных оснований рассчитывать на помощь тех, к кому она обратилась, у нее, откровенно говоря, не было, каждый новый суровый ответ доводил ее до слез, как ни старалась она скрыть от нас свое горькое разочарование. Мне неизвестно, виделась ли мама хоть раз с леди Ладлоу; я только слышала, что это какая-то гранд-дама, чья бабка и мамина прапрабабка приходились друг другу сводными сестрами; однако ни о ее жизни, ни о ее характере я ровным счетом ничего не знала и далеко не уверена, что мама знала много больше меня.
Я заглянула в письмо поверх маминого плеча и вслух прочла первую строку: «Дорогая кузина Маргарет Доусон…» Не знаю почему, это начало заронило во мне надежду. Далее следовало… Сейчас, погодите, я постараюсь припомнить все слово в слово.
«Дорогая кузина Маргарет Доусон! С большим прискорбием я услышала весть о вашей потере – о кончине столь добродетельного супруга и ревностного священнослужителя, каковым, судя по доходившим до меня отзывам, всегда был при жизни кузен Ричард».
– Вот! – прервала меня мама, уперев палец в первый абзац. – Прочти еще раз погромче, пусть маленькие услышат и запомнят, какой доброй славой овеяно имя их отца, как почтительно говорят о нем даже те, кого он в глаза не видел.Кузен Ричард… Как это мило… Как очаровательно изъясняется ее светлость! Продолжай, Маргарет!
Мама утерла выступившие на глаза слезы и приложила палец к губам, призывая к тишине мою маленькую сестренку Сесилию: не способная проникнуться важностью минуты, крошка Сесилия стала от скуки шуметь, чтобы на нее наконец обратили внимание.
«Вы пишете, что остались одна с девятью детьми. У меня тоже было бы девять детей, если бы они дожили до сего дня. Из всех уцелел только Ухтред-Мортимар, нынешний лорд Ладлоу; он по большей части живет в Лондоне. Сама же я живу в большом доме в Коннингтоне, где на моем попечении находятся шесть благородных девиц, к коим я отношусь как к своим дочерям, если не считать отсутствия у них полной свободы в выборе одежды и еды, на что могли бы претендовать юные леди, обладай они соответствующим положением и состоянием. Так или иначе, эти молодые особы, наделенные добрым здравием, но обделенные приличным достатком, – мои постоянные компаньонки, и я стараюсь исполнить свой христианский долг, взяв на себя заботу о них. В минувшем мае одна из моих подопечных скончалась во время визита в родительский дом, и вы оказали бы мне большую услугу, если бы позволили своей старшей дочери занять освободившееся место среди моих домочадцев.
Полагаю, лет ей около шестнадцати? В таком случае она обретет здесь подруг лишь почти такого же возраста или, может быть, несколько старше. Я обеспечиваю девушек всей необходимой одеждой и даю им немного денег на карманные расходы. Что касается матримониальных перспектив, то Коннингтон, по причине своей удаленности от городов, не сулит им больших надежд. Наш приходский священник – престарелый глухой вдовец; мой управляющий – человек женатый; местных фермеров я не беру в расчет как явно не заслуживающих внимания благородных девиц, коим я покровительствую. Тем не менее, если та или другая из них, ничем не запятнав себя в моих глазах, пожелает выйти замуж, я готова оплатить свадебный стол, а также ее новый гардероб и белье, постельное и столовое. Для тех же, кто останется при мне до моей смерти, в завещании предусмотрено скромное вознаграждение. Кроме того, я предпочитаю из собственных средств покрывать дорожные расходы девушек, хотя это сопряжено с неким внутренним противоречием: с одной стороны, я не одобряю женщин, которые без особой нужды переезжают с места на место; с другой стороны, хорошо понимаю, что слишком долгая разлука с родными наносит урон естественным семейным связям.
Если мое предложение по нраву вам и вашей дочери – по нраву вам прежде всего, ибо дочь ваша не может быть так дурно воспитана, чтобы противиться вашему желанию, – дайте мне знать, дорогая кузина Маргарет Доусон, и я распоряжусь встретить юную леди в Кэвистоке, на ближайшей от нас почтовой станции, куда ее доставит дилижанс».
Мама выпустила письмо из рук и несколько минут сидела молча.
– Не представляю, Маргарет, что мне делать без тебя.
Как всякая молоденькая, неопытная девчонка, в душе я возликовала от обещания перемены места и новой жизни, но мамин печальный вид и протестующий писк детворы вернули меня на землю.
– Я никуда не поеду, мама!
– Что ты, что ты! – покачав головой, возразила мама. – Надо ехать. Леди Ладлоу пользуется большим влиянием и может оказать протекцию твоим братьям. Ее предложением нельзя пренебречь!
Мы еще долго судили и рядили, но в конце концов решили ответить согласием – и были за то «вознаграждены» ее рекомендательным письмом, благодаря которому одного из моих братьев приняли в знаменитую лондонскую школу «Христов приют» (впоследствии, близко узнав леди Ладлоу, я поняла, что она в любом случае поддержала бы нуждающихся родственников, даже если бы мы не откликнулись на ее великодушный призыв).
Вот при каких обстоятельствах произошло мое знакомство с миледи Ладлоу.
Я хорошо помню свой приезд в Хэнбери-Корт. Ее светлость послала за мной коляску на ближайшую от усадьбы почтовую станцию, где я должна была сойти с дилижанса. «Там один дожидается вас, если вы Доусон, – сказал, обращаясь ко мне, станционный смотритель. – Старый кучер… вроде бы из Хэнбери-Корта». Я слегка растерялась от его тона и впервые почувствовала, каково очутиться одной среди чужих; своего попутчика, которому моя мама наказала позаботиться обо мне в дороге, я уже потеряла из виду. Возница помог мне усесться в высокую одноколку-кабриолет с откидывающимся верхом и пустил лошадку тихой рысью, позволяя мне насладиться очаровательным пасторальным пейзажем. Через некоторое время дорога начала взбираться на длинный пологий холм, мой кучер слез на землю и повел лошадь в поводу. Я и сама охотно прошлась бы пешком, но не была уверена, хватит ли у меня сил до конца одолеть подъем, к тому же я не решалась просить его помочь мне сойти вниз по неудобным ступенькам. Наконец мы достигли вершины холма. Впереди простиралась открытая, со всех сторон продуваемая ветрами широкая луговина – так называемая (как я потом узнала) Хэнберийская охота, или просто Охота. Возница остановился перевести дух, ласково потрепал лошадь по шее и снова уселся на сиденье рядом со мной.
– А что, Хэнбери-Корт уже близко? – спросила я.
– Близко? Я бы не сказал, мисс. Отсюда миль десять будет.
Лиха беда начало: стоило нам переброситься парой слов, и дальше беседа пошла как по маслу. Вероятно, он тоже не решался первым заговорить со мной, однако после моего вопроса преодолел свою робость скорее меня. Я предоставила ему самому выбирать темы для разговора, хотя не всегда понимала его интерес к тому или иному предмету. К примеру, он больше четверти часа рассказывал, как лет тридцать тому назад гонялся за матерым лисовином и как тот ловко путал следы (с перечислением всех потаенных местечек, проток и буераков, словно мне они были известны не хуже, чем ему самому), пока я все гадала, что за зверь такой – лисовин[2].
За Охотой дорога испортилась. Никто из ныне живущих не может вообразить, что представляли собой пятьдесят лет назад наши проселочные дороги, если сам никогда их не видел. Все в глубоких рытвинах, разбитые и раскисшие, они вынуждали вас продвигаться «зигзугом», как выразился мой возница Рендел; меня так мотало из стороны в сторону, так подкидывало на шатком сиденье, что все мои мысли были заняты только попытками удержаться на нем, обозревать окрестности я и думать забыла! Идти же пешком по дорожной грязи означало перепачкаться сверх всякой меры перед первым свиданием с миледи Ладлоу. Но как только мы выехали на луга, где кончалась наезженная дорога и можно было идти по траве, не опасаясь привести себя в непотребный вид, я попросила Рендела ссадить меня на землю. Он с благодарностью исполнил мою просьбу, потому что жалел свою взмыленную лошадку, которая устала тащиться по грязи и ухабам.
Луга плавно шли под уклон, спускаясь к широкому просвету между рядами высоких вязов; должно быть, в прежние времена здесь пролегала парадная подъездная аллея. Мы поехали по этой тенистой зеленой лощине, над которой простерлось закатное небо, и внезапно оказались у верхней площадки длинной лестницы.
– Если хотите, мисс, бегите вниз по ступеням, а я объеду кругом и встречу вас там, только вам придется снова залезть на сиденье – миледи не понравится, если вы подойдете к дому пешком, а не подкатите в коляске.
– Значит, мы уже прибыли? – растерянно спросила я, словно конец пути застиг меня врасплох.
– Усадьба внизу, мисс, – ответил он, указывая хлыстом на пучки узорчатых кирпичных труб, черневших над кронами деревьев на фоне красного заката, – возле дальней границы большого квадратного газона под крутым косогором, на вершине которого мы стояли.
Собравшись с духом, я спустилась по лестнице навстречу Ренделу и уселась в коляску. Мы обогнули газон и чинно въехали в ворота, ведущие в парадный внутренний двор перед входом в усадьбу.
Замок Хэнбери-Корт представляет собой внушительное краснокирпичное строение – по крайней мере бо́льшая его часть облицована красным кирпичом. Наружные стены и сторожевой привратный дом также сложены из кирпича – с отделкой из светлого камня по углам и вокруг дверных и оконных проемов, что придает зданию некоторое сходство с королевским дворцом Хэмптон-Корт. Но задний фасад, с щипцами на крыше, арочными порталами и каменными переплетами окон, указывает (как говорила леди Ладлоу), что изначально здесь располагался приорат. Сохранилась даже приемная приора, только мы всегда называли это помещение гостиной миссис Медликотт; сохранился и десятинный амбар, размерами не уступавший церкви, и рыбные пруды, снабжавшие монахов свежей рыбкой во время поста. Впрочем, все это я разглядела лишь позже. В тот первый вечер я едва ли обратила внимание даже на девичий виноград (по слухам, впервые завезенный в Англию одним из пращуров миледи), наполовину скрывавший главный фасад дома.
Освоившись в дилижансе, я не хотела расстаться с ним, и точно так же теперь мне не хотелось расставаться с Ренделом, моим добрым другом, которого я знала без малого три часа. Но делать нечего: коли приехала – ступай в дом! Мимо осанистого пожилого джентльмена, с поклоном отворившего мне дверь, в большой парадный холл справа от входа, пламеневший в прощальных лучах солнца (пожилой джентльмен шел впереди, указывая мне путь), далее по ступеньке на подиум (так называлось это возвышение, как мне сообщили впоследствии), оттуда налево, через анфиладу гостиных с окнами на великолепный сад, который даже теперь, в вечерних сумерках, радовал глаз пышным цветением. Пройдя последнюю из гостиных, мы взошли по четырем ступеням, и мой провожатый приподнял тяжелую шелковую занавесь: я предстала перед миледи Ладлоу.
Она была маленького роста и миниатюрного сложения, но держалась очень прямо. На голове у нее возвышался кружевной чепец – чуть ли не в половину ее роста, подумалось мне тогда, – с лентой вокруг головы. (Чепцы с завязками под подбородком вошли в моду позже, и миледи их не признавала, говоря, что это все равно как показываться на люди в ночном колпаке.) Спереди на чепце красовался белый атласный бант, и широкая белая атласная лента обхватывала голову, удерживая чепец в нужном положении. Плечи и грудь миледи покрывала шаль из тончайшего индийского муслина, наброшенная поверх муслинового же передника, который подчеркивал элегантность черного шелкового платья с короткими рукавами-буф, отделанными рюшами, и шлейфом, пропущенным через прорезь в кармане, чтобы его можно было по необходимости укорачивать или удлинять; из-под платья выступала стеганая бледно-сиреневая атласная нижняя юбка. Волосы у миледи были белее снега, но их почти полностью скрывал объемистый чепец; кожа, несмотря на почтенный возраст, была гладкая, блестящая, словно навощенная, с нежным кремовым отливом; большие синие глаза составляли, вероятно, главную женскую прелесть миледи в ее молодые годы, тогда как нос и рот у нее были вполне обыкновенные, насколько я помню. Сидя в кресле, миледи держала под рукой массивную трость с золотым набалдашником – не столько для практических целей, сколько в качестве символа своего высокого статуса: в легкости шага она могла бы поспорить с любой пятнадцатилетней девушкой, и когда совершала до завтрака свой одинокий утренний моцион, то миновала аллеи усадебного парка так стремительно, что нам, ее молодым компаньонкам, навряд ли удалось бы ее обогнать.
Миледи встретила меня стоя. При входе я сделала книксен, как учила мама, и, повинуясь инстинктивному чувству, приблизилась к хозяйке. Вместо того чтобы протянуть мне руку, она приподнялась на цыпочки и расцеловала меня в обе щеки.
– Вы продрогли, дитя мое. Сейчас будем пить чай.
Она позвонила в колокольчик, стоявший на столике возле нее, и тотчас из соседней комнаты явилась горничная, словно только меня и ждала, со свежезаваренным чаем и тарелкой тонко нарезанного хлеба с маслом, который я одна съела бы весь без остатка, до того я проголодалась после долгой дороги. Горничная сняла с меня накидку, и я села, всем своим существом ощущая царившее здесь безмолвие, почти не нарушаемое шагами молчаливой горничной по толстому ковру и тихим, хотя и четким голосом миледи Ладлоу. Встретившись со мной взглядом – ах эти острые и вместе с тем ласковые синие глаза! – ее светлость промолвила:
– Боюсь, моя милая, у вас руки замерзли. Снимите перчатки. – (На мне были прочные замшевые перчатки, но я не осмеливалась снять их, пока мне не предложат.) – Давайте попробуем согреть ваши ручки. Вечерами уже прохладно. – Она взяла мои большие красные руки в свои – мягкие, теплые, белые, унизанные кольцами. Потом, посмотрев мне в лицо, печально вздохнула: – Бедное дитя! И это старшая из девятерых, подумать только! У меня была дочь, ваша ровесница, но представить себе, что восемь остальных еще младше ее… Нет, немыслимо.
После непродолжительного молчания она вновь позвонила в колокольчик и велела своей горничной по фамилии Адамс проводить меня в мою комнату.
Комната оказалась крошечной – думаю, в оны дни она служила кельей. Стены из беленого камня, белая постель. На полу по обе стороны кровати – кусок красной ковровой дорожки и стул. В смежном закутке умывальник и туалетный столик. На стене прямо напротив кровати написано краской поучительное высказывание из Священного Писания; под ним гравюра, весьма популярная в то время, с семейным портретом короля Георга и королевы Шарлотты вместе с их многочисленным потомством, включая маленькую принцессу Амелию в детской коляске[3], а справа и слева от королевской семьи – два небольших, также гравированных портрета: один – Людовика XVI, другой – Марии-Антуанетты. На каминной доске я увидела молитвенник и трутницу. И больше в комнате ничего не было. Надо вам заметить, в те дни люди даже не мечтали о письменных столах, чернильницах, бюварах, уютных креслах и многом другом. Нас с детства приучали к тому, что спальня предназначена для переодевания, сна и молитвы.
Вскоре позвали на ужин. Посланная за мной молодая леди повела меня вниз по широкой лестнице с низкими ступенями в уже знакомый мне большой холл, через который я шла, направляясь в покои миледи Ладлоу. Нас стоя ожидали еще четыре молодые леди. Завидев меня, они учтиво присели, не проронив при этом ни звука. Все были одеты в своего рода униформу: кисейный чепец, обвязанный голубой лентой, однотонный шейный платок и рабочий фартук поверх серо-коричневого, «немаркого» саржевого платья. Все сгрудились немного в стороне от стола, накрытого для ужина: холодная курица, салат и песочный пирог с фруктами. Еще один стол, поменьше, с круглой столешницей, помещался на подиуме, и на нем был только серебряный кувшин с молоком и булочка. Возле стола стояло резное кресло, спинку которого венчала графская корона. Я удивилась, почему никто из девушек не заговорит со мной, но, вероятно, они просто робели, как и я, если не было иной причины. Впрочем, спустя минуту после того как я вошла в холл через дверь в его нижней части, отворилась дверь на подиум и к нам присоединилась миледи. Все приветствовали ее глубоким поклоном (я тоже – глядя на других). Она остановилась, обвела нас взглядом и произнесла:
– Юные леди, представляю вам Маргарет Доусон, прошу ее любить и жаловать!
И в продолжение трапезы подопечные миледи оказывали мне вежливое внимание, какое полагается оказывать незнакомому человеку за общим столом, не более того. Когда с едой было покончено и одна из девушек произнесла благодарственную молитву, миледи позвонила в колокольчик. Слуги быстро убрали посуду и принесли раскладной аналой, который установили на подиуме. Тем временем в холле собрались все обитатели дома. Миледи пригласила одну из моих будущих товарок взойти на подиум и прочесть псалмы и наставления согласно таблице чтений на каждый день. Я сразу подумала, что, будь я на месте чтицы, у меня душа ушла бы в пятки. Молитв не говорили. Миледи скорее согласилась бы сама проповедовать в храме, чем позволила бы невесть кому, не имевшему даже диаконского чина, совершать молебны «на дому». Да и рукоположенный клирик не снискал бы ее одобрения, если бы созвал людей для молитвы в неосвященном месте.
В свое время миледи удостоилась чести служить фрейлиной королевы Шарлотты, так как происходила из древнего рода Хэнбери, прославившегося еще при Плантагенетах[4], и являлась наследницей обширных земель, которые некогда захватывали территорию четырех графств. Хэнбери-Корт был ее фамильным имением и принадлежал ей по закону. Выйдя замуж за лорда Ладлоу, она много лет жила в его поместьях, разбросанных тут и там, вдали от родового гнезда. Мало-помалу она потеряла всех своих детей, кроме одного, и почти все они умерли в домах лорда Ладлоу. Смею предположить, что миледи прониклась неприязнью к тем местам и после смерти милорда захотела вернуться в Хэнбери-Корт, где так счастливо жила в девичестве. Вероятно, то была лучшая пора ее жизни. Если вдуматься, все ее убеждения, оставшиеся с ней до преклонных лет и поражавшие нас своей необычностью, полвека назад были общепринятыми. Вот только один пример: в годы моего пребывания в Хэнбери все громче стали раздаваться голоса в пользу народного образования – небезызвестный мистер Рейкс[5] положил начало воскресным школам, и некоторые священники тоже призывали учить детей чтению, письму и арифметике. Но миледи и слышать об этом не желала: с такими призывами мы скоро договоримся до всеобщего равенства – до революции, утверждала она.
Прежде чем взять какую-то девушку на работу, миледи требовала привести ее к ней, дабы самой оценить внешний вид кандидатки и расспросить ее о семье. Последнему обстоятельству миледи придавала особое значение: если девица недостаточно живо откликается на вопросы о ее родной матери или о «маленьком» (при наличии в семье грудного младенца), из нее не выйдет хорошей служанки. Затем девушке предлагалось выдвинуть ноги вперед и показать свою обувку, которая должна быть крепкой и опрятной. Затем требовалось прочесть по памяти «Отче наш» и Символ веры. Затем честно сказать, умеет ли она писать. В случае утвердительного ответа, если миледи была удовлетворена всем предшествующим ходом собеседования, на лицо ее набегало облако разочарования, ибо она следовала незыблемому правилу: грамотных в прислуги не нанимать! Но я могу засвидетельствовать, что изредка миледи делала исключения – дважды, если быть точной, и оба раза девушке нужно было особенно постараться и доказать свою благонадежность, перечислив наизусть десять заповедей. Одна очень бойкая девица (за которую я тоже переживала, хотя и напрасно: она скоро вышла замуж за богатого торговца мануфактурой и уехала в Шрусбери) благополучно прошла все испытания, если принять в расчет тот факт, что она умела писать, но под конец сама все испортила – дойдя до последней заповеди, решила похвастаться:
– С позволения вашей светлости, я и считать умею!
– Ступайте прочь, милочка, – поспешно сказала миледи, – ваше место за прилавком! В прислуги вы не годитесь.
Обескураженная девица вышла за дверь, но не прошло и минуты, как миледи велела мне догнать ее и отвести на кухню, чтобы не отпускать голодной в обратный путь. Через несколько дней миледи послала за ней – вручила ей Библию и наказала остерегаться вредных французских идей, из-за которых французы обезглавили короля и королеву.
Бедняжка так растерялась, что в ответ пробормотала сущую несуразицу:
– Да что вы, миледи, я и мухи не обижу, не говоря уже о короле, а французов этих терпеть не могу, и лягушек тоже, не извольте беспокоиться!
Однако миледи была неумолима и остановила свой выбор на девушке, не умевшей ни читать, ни писать, чтобы поскорее унять тревожные мысли касательно народного образования, которое упорно продвигалось в сторону сложения и вычитания. Впоследствии, когда старый священник, возглавлявший хэнберийский приход, умер (это случилось уже при мне) и вместо него епископ назначил другого, много моложе, вопрос образования явился предметом острых разногласий между ним и миледи. Но покуда жив был глухой старик Маунтфорд, миледи завела такой обычай: ежели в какой-то день она чувствовала, что не расположена слушать проповедь, она становилась в дверях своей огороженной квадратной «скамьи» – прямо напротив аналоя – и произносила (в той части утреннего богослужения, где, согласно указаниям для хора и прихожан, значится «далее следует гимн»):