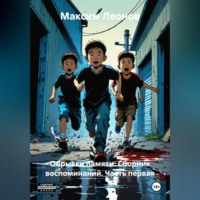Полная версия
Обрывки памяти. Сборник воспоминаний. Часть первая
– Ты, Вась, не лыком шит, – хрипло проговорил Витя, вытирая тыльной стороной ладони струйку крови и пота, стекавшую из-под его растрепанной, темной челки на скулу. Он поправил ворот своей вечно мятощейся, потертой куртки цвета хаки, на которой уже красовалось свежее, смачное пятно неизвестного происхождения – грязь, кровь или краска.
– Думал, сдрейфишь перед этим боровом Клыком. Испугаешься его кулачищ. А ты… как скала, братан. Врезал ему по самое не балуйся! Прямо под дых! – В его голосе звучало искреннее восхищение, смешанное с братской солидарностью.
– Да уж, – согласился Серёга, потирая затылок, где уже намечалась твердая, болезненная шишка. Его голос был ровным, спокойным, как всегда, но в глубине карих, внимательных глаз читалось явное одобрение и даже уважение. – Я видел его рожу, когда ты влепил. Офигел конкретно. Думал, ты сейчас с визгом убежишь к мамке под юбку. А ты – стойкий оловянный солдатик, хоть и помятый. Молоток.
Я попытался что-то ответить – сказать спасибо за поддержку, бодро хмыкнуть, отшутиться. Но горло было пересохшим от адреналина, пыли и страха, сжатым в тугой узел. Вместо слов вырвалось лишь сдавленное кряхтенье. Внутри все еще бушевал вихрь: остатки леденящего страха перед Клыком, дикая, почти пьянящая радость от того, что выжил, что ударил, и странная, новая, еще неосознанная уверенность – в себе, в своих друзьях. Я разжал кулак, разглядывая ссадину на костяшках – свою первую, настоящую боевую отметину. Она горела, но это было горение победителя.
– Знаешь, что? – Витя придвинулся ближе, понизив голос до конспиративного шепота, хотя во дворе, кроме нас троих, ни души не было. Вечерняя мгла быстро сгущалась, поглощая качели и ржавые турники; только желтые квадраты окон, как слепые глаза домов, бросали неровные пятна света на потрескавшийся асфальт. – После этого ты свой. По-настоящему. Навсегда. Тут, во дворе, свои законы. Железные. Неписаные, но крепче бетона. И если их не знать, не чувствовать кожей… – он сделал выразительную паузу, его глаза стали серьезными, почти взрослыми, – …быстро окажешься на обочине. Или того хуже. Выбросят. Затопчут.
– Какие законы? – спросил я, старательно пытаясь скрыть дрожь в голосе и сделать вид, что мне все это давно известно. Хотя внутри все еще клокотал сумбур, а ноги слегка подрагивали. Но знать хотелось страшно. Это был входной билет в новый мир.
– Первое, – Витя поднял грязный, с ободранным ногтем палец, как учитель у доски. – Никогда. Не бояться. Старшаков. Никогда. Даже если они вот такие! – он раскинул руки, изображая нечто огромное. – Даже если они тебя на две головы выше. Страх – это слабость. Они ее чуют. Как псы. Запах страха. Унюхают – сожрут живьем. Поэтому – не бойся. Даже если кишки поджилки трясутся, а сердце вот-вот выскочит. Смотри им в глаза. Прямо. Не отводи. Надо общаться с ними на равных, но и залупаться не надо! Улыбайся, если можешь, когда совсем страшно. Пусть думают, что ты псих. Псих – это страшно. Псих – непредсказуем. Его боятся. – Он говорил с неподдельной, суровой серьезностью восьмилетнего философа улицы, познавшего ее законы на собственной шкуре.
– Второе, – плавно, методично подхватил Серёга, разминая запястье, на котором уже проступал синеватый след от чужой руки. Его голос был тихим, но каждое слово падало, как камень в воду. – Не светись. Не лезь в чужие дела без острой нужды. Не маячь лишний раз перед теми, кто постарше, посильнее, поглупее от своей силы. Они могут и пощипать, и поучить жизни просто так. От скуки. От желания потешить свое ЧСВ. А ты – не учебный манекен. Не игрушка. Ищи свои тропы, свои укромные места. Будь тенью, когда нужно. Умей раствориться. Сила – не в том, чтобы всегда быть на виду. Иногда сила – в том, чтобы тебя не заметили, пока ты не решил, что пора. – Его слова были взвешенными, продуманными, как тактический ход.
– И третье? – спросил я, уже втягиваясь в разговор, чувствуя, как внутри что-то важное, основополагающее, сдвигается, занимая свое место. Улица, этот хаотичный мир, начинала обретать структуру, законы, карту. Она становилась понятнее, а значит – чуть менее враждебной.
– Третье, – Витя ударил меня кулаком по плечу – по-дружески, но ощутимо, с мокрым звуком по грязной ткани. – Держись своих. Дружи с теми, кто проверен временем. Кто подставит спину, когда припрет. Кто не сольет в трудную минуту, не побежит спасать свою шкуру. Кто стоит горой. А мы с Серёгой… – он кивнул на притихшего Серёгу, чье молчание было красноречивее любых клятв, – …мы твои первые. Проверенные. Братья. – Он указал сначала на запекшуюся кровь на своей брови, темную корку на фоне грязи, потом на мою свежую, пылающую ссадину на костяшках. – Вот она, наша клятва. Кровью скреплена. Запомни. Это навсегда.
Я кивнул, сглотнув ком в горле. Слова были не нужны. Они бы все равно потерялись в вихре, бушевавшем внутри: остатки ужаса перед свирепой рожей Клыка, горьковатая гордость за тот отчаянный удар, который я все-таки нанес, и невероятное, теплое, все заполняющее чувство принадлежности. Я был принят. Я был своим. Не просто соседским мальчишкой, а частью этого двора, его законов, его крови и грязи.
Я посмотрел вокруг. Вечерний двор уже не казался просто местом для догонялок, пряток и покатушек на великах. Он превращался в огромный, сложный, опасный и безумно притягательный организм – школу жизни под открытым небом, где каждый день, каждый час был новым экзаменом на выживание, на смекалку, на верность себе и своим. Экзаменом без учебников, но с жесткой проверкой на прочность. И я только что сдал свой первый, самый страшный зачет. С грехом пополам, с кровью и синяками, но сдал. И этот первый глоток взрослости, добытый в пыльной драке у ржавой песочницы, горел во рту острее и слаще любого лимонада. Это была первая кровь настоящей, дворовой жизни.
***
Здание школы №17 стояло, как застывший во времени монумент. Не просто здание – дышащий историей, бедностью и мелом гигант. Еще не такая старая, но позднесоветская постройка, возможно, уже требовавшая капитального ремонта, со стенами, впитавшими и ощутившими все последующие годы упадка на себе. Краска на подоконниках отслаивалась лохмотьями, обнажая древесину, почерневшую от сырости. Парты, изъеденные несколькими поколениями учеников, скрипели под каждым движением, храня в своих недрах выцарапанные признания, ругательства и формулы. Над спортзалом вечно плакала крыша, оставляя на полу темные, зловещие озера, которые мы обходили с суеверным страхом. Воздух был густым коктейлем: духи женщин-учительниц, дешевые и навязчивые, как и их требования; приторно-сладкий запах школьной выпечки, смешанный с вечной пылью, висевшей в лучах осеннего солнца; и главный ингредиент – страх. Страх перед внезапной контрольной, перед гневом физрука, чей свисток резал слух хуже сирены (и его связка ключей – летевшая в тебя, чуть что), перед незримой иерархией старшеклассников, безраздельно владевших туалетами и задворками школьного двора в короткие минуты перемен.
Наш с Витьком и Серёгой оплот, наш маленький форпост в этой империи детства и страха, располагался у бокового входа. Рядом зиял заколоченный досками пожарный выход – немой свидетель забытых инструкций. Здесь же, в полутемной нише, образованной выступающей стеной и неуклюжей пристройкой котельной, собирался священный круг – парни из седьмых-восьмых. Они курили. Для нас, второклашек-третьеклашек, едва освоивших азы умножения, эта ниша была порталом в запретный, дымный, невероятно манящий мир взрослости и бунта. Запах сигарет «Ява», едкий и терпкий, смешивался с запахом осенней сырости, прелых листьев и влажного кирпича. Этот коктейль казался нам эликсиром свободы, вызовом всему правильному и школьному. Мы наблюдали за старшими украдкой, из-за угла, с благоговейным ужасом и тайным восхищением, ловя обрывки их грубоватого, полного непонятного нам сленга разговора.
Однажды на большой перемене, когда шум в коридорах достиг апогея, Витя схватил меня за руку с такой силой, что чуть не вывихнул запястье. В его глазах, всегда живых и озорных, горел знакомый, опасный азарт – огонек, предвещавший либо грандиозную шалость, либо неминуемые проблемы.
***
Если бы школа №17 была живым существом, то она, несомненно, была бы старым, ворчливым, но в глубине души добрым псом. Она была нашим вторым домом, полем для игр, ареной для подвигов и провалов. Её стены были целой вселенной, которую мы исследовали с семи утра до вечера. Воздух здесь был густым коктейлем из запахов: дешевый одеколон учителей, сладковатый дух столовской выпечки, вечная пыль, вьющаяся в лучах осеннего солнца, и главный ингредиент – легкий, но постоянный страх. Страх перед внезапной контрольной, перед гневом физрука и перед незримой иерархией старшеклассников.
Нашим оплотом был уголок у бокового входа, рядом с зиявшим заколоченным досками пожарным выходом. Но настоящие приключения ждали нас внутри. Однажды на большой перемене, когда коридоры оглушали диким гамом, воплями и топотом сотен ног, Витя схватил меня за руку. Его глаза блестели с удвоенной силой.
– Вась, Серег, быстро за мной! – прошипел он, едва перекрывая шум. – Смотрите, что я у брата спер!
Мы, не раздумывая, рванули за ним, ловко лавируя между стайками шепчущихся девчонок и важными старшеклассниками, курившими у расписания. Серега, наш голос разума, на мгновение замялся, окинув взглядом коридор на предмет дежурных учителей, но азарт взял верх, и он помчался следом.
Витя затянул нас в наш тайный штаб – узкий, полутемный проход около кабинетов труда. Здесь пахло райским коктейлем из стружки, машинного масла, старой краски и чего-то еще, особенного – духом мужской работы. Он огляделся по-шпионски и вытащил из кармана заветный мешочек, сшитый, по-видимому, из старой занавески его бабушки.
– Глядите! – с гордостью фокусника, достающего из шляпы не кролика, а целого слона, сказал он.
В мешочке лежало нечто, от чего у нас перехватило дыхание. Это была настоящая роскошь, сокровище: толстенные, матовые, увесистые фишки – с изображение героев фильмов и мультфильмов.
– Кто-то забыл на лестнице либо потерял, – без тени раскаяния признался Витя. – Не повезло какому-то лоху!. Давайте сыграем, пока перемена! На кону – всё!
Мы присели на корточки, и фишки с громким, солидным стуком рассыпались по грязному полу. Правила были святы и просты: бить по очереди, стараясь своей фишкой перевернуть или задеть фишку противника. Выигранные трофеи безоговорочно переходили в собственность победителя. Азарт затмевал всё. Мы так увлеклись, что провалились в иное измерение, где не существовало времени.
Первым спохватился Серега, всегда чуткий к изменениям вокруг.
– Ребята! – его голос дрогнул. – Тишина. Гробовая! Все уже на химии! Мы опоздали!
Витя, не отрывая взгляда от заветной «Ламборджини», лишь махнул рукой:
– Ничего, скажем, что в туалете задержались. У Анны Сергеевны и так сопли текут, она ничего не заметит. Еще одна партия! Я должен отыграться!
Но в этот самый момент из-за угла послышались мерные, властные, неумолимые шаги. Знакомый цокот каблуков, от которого замирали сердца. Мы замерли, как кролики перед удавом. Это могла быть только она – Зоя Петровна, наш завуч, женщина с лицом, не знавшим улыбки, и стальным взглядом из-под густых бровей.
– Мальчики! – ее голос прозвучал тихо, но в этой тишине он показался нам раскатом грома. – Объясните, чем вы занимаетесь в учебное время в неположенном месте?
Мы вскочили, вытянувшись в струнку. Витя, растерявшись, выпалил первую пришедшую в голову отмазку:
– Мы… журнал… мелочь потеряли… ищем…
Зоя Петровна медленно обвела нас своим пронзительным взглядом. Он упал на мешочек с фишками, который Витя судорожно сжимал в руке.
– Мелочь? – она сделала многозначительную паузу. – Очень странные у вас деньги. На урок опоздали. Играли, я смотрю. На перемене. В азартные игры. Фамилии!
Мы покорно, по слогам, продиктовали свои фамилии. Серега был бледен, Витя пунсово краснел, а я чувствовал, как подкашиваются ноги. Приговор был суров и озвучен без эмоций: «Завтра к первому уроку привести родителей. Обсудим ваше поведение». Мне было строго-настрого велено привести отца.
Остаток дня прошел в тумане стыда и страха перед неминуемой расплатой. Химия, которую я и так ненавидел всеми фибрами души, показалась еще скучнее и невыносимее. Кабинет был пропитан едким запахом сероводорода и всеобщей тоской. Анна Сергеевна, учительница в вечно сером халате, монотонным, усыпляющим голосом бубнила у доски что-то о валентности. Я смотрел в окно, на желтеющие кроны берез за школьным забором, и думал о том, что дома меня ждет серьезный разговор. Естественно, она заметила мое отсутствующее выражение лица и вызвала к доске решать уравнение, с которым я, разумеется, не справился. В дневнике появилась жирная, безобразная двойка. Теперь меня ждал двойной разнос.
Спасением после химии всегда была литература. Наша учительница, Маргарита Ивановна, была из другой, светлой вселенной. Молодая, с умными, добрыми глазами, она не читала нам скучные биографии из учебника. Она рассказывала истории. Про Пушкина – как о живом, вспыльчивом и гениальном человеке. Про Гоголя – как о загадочном мистике. Сегодня мы проходили «Героя нашего времени». Маргарита Ивановна так живо и проникновенно рассказывала о Печорине, о его внутренних терзаниях и скуке, что мне, хоть я и не все до конца понимал, стало его почему-то искренне жалко. Казалось, она говорит не о книжном персонаже, а о ком-то реальном, о нашем знакомом. На ее уроках время летело незаметно, и даже Витя переставал рисовать в тетради танки и самолеты, задумчиво глядя в окно.
Но настоящим приключением, настоящей школой выживания были уроки труда. Нашим «трудовиком» был Якимыч – человек-легенда. Щуплый мужичок с закрученными усами, как у ковбоя из вестерна, и вечно засаленным халатом, из карманов которого вечно торчали какие-то стамески и обломки наждачки. Он был невероятно рукастым: мог починить любой станок, выточить что угодно и одной левой собрать табуретку. Но была у него одна особенность – он жутко шепелявил. Фразу «Возьмите рубанок, дети» он произносил как «Возьмите лубанок, дети», что неизменно вызывало у нас подкатывающий смех, который мы давили, уткнувшись лица в рукава.
И вторая, более серьезная особенность – Якимыч иногда любил «принять» за своим верстаком. Спирт он хранил в склянке с надписью «Очиститель», но мы-то всё знали. После таких «очисток» наш обычно спокойный Якимыч превращался в грозного тирана. Его глаза наливались кровью, он начинал агрессивно кричать на класс, размахивая напильником или каким-нибудь другим опасным инструментом:
– Што вы как козлы тупите?! Все по периметру! До конца урока пишите технику безопасности! Пятьдесят лаз!
«Пятьдесят лаз» – это означало, что мы должны были 50 раз переписать правила работы на токарном станке. Мы рассаживались по периметру мастерской, доставали тетради и начинали писать. Воздух становился густым от напряжения и запаха дешевого спирта, доносящегося от учителя. Якимыч садился на свой стул посередине мастерской, положив перед собой длинную, идеально выточенную палку – свой главный инструмент поддержания дисциплины. Он начинал диктовать, медленно и с той самой шепелявостью:
– Плавила техники безопафноти… – и после каждого абзаца он делал паузу и спрашивал, глядя на нас поверх очков: – Поняль да?
Если кто-то отвлекался, не слушал или начинал хихикать, Якимыч, не вставая со стула, точным движением руки легонько, но очень чувствительно стучал той самой палкой по спине провинившегося. Палки, кстати, периодически ломались о особенно твердые спины наших одноклассников, и тогда Якимыч с издевательским прищуром говорил: «Ничего, выточу новую. У меня делефа много». Иногда он засыпал прямо во время диктовки, и тогда мы осторожно прекращали писать и начинали тихо общаться, пока кто-нибудь из самых отчаянных не дернул его за усы.
Из-за этих «очисток» 75% времени на труды мы занимались именно переписыванием техники безопасности. Когда же Якимыч был в норме, мы работали за станками. И делали мы, как вы думаете? Правильно. Скалки. Только скалки. Из года в год. Я до сих пор не знаю, зачем школе нужно было такое количество скалок. Возможно, их сбрасывали в подвал, как ядерные отходы. К концу школы у каждой матери в нашем районе было по крайней мере 5-6 скалок, сделанных нашими руками.
Однажды, когда мы все стояли у своих токарных станков по дереву, я слишком увлекся. Мне нужно было обточить заготовку для своей скалки. Якимыч показывал, как правильно держать напильник, как аккуратно снимать стружку. Но мне показалось, что я все делаю слишком медленно. Я решил ускорить процесс и сильнее надавил на резец. Раздался неприятный, трескучий звук. Заготовка, не выдержав напора, сорвалась со шпинделя и, словно снаряд, со свистом полетела через всю мастерскую. Она пролетела в сантиметре от лба трудовика и с грохотом ударилась о металлический шкаф, оставив на нем приличную вмятину.
В мастерской воцарилась мертвая тишина. Все замерли. Якимыч, который секунду назад что-то объяснял у другого станка, медленно повернулся ко мне. Его лицо изменилось. Шепелявость куда-то исчезла, голос стал низким и страшным.
– Ты… что же ты делаешь, балда?! – он не кричал. Он говорил тихо, но от этого было еще страшнее. – Ты же мог глаз лишить товарища! Или себя! Или меня, в конце концов!
Он быстрыми шагами подошел ко мне и, недолго думая, отвесил мне здоровенный подзатыльник. Не со злости, а скорее от испуга и осознания, чем могла закончиться эта история.
– Всё! – рявкнул он на весь класс. – Все по периметру! Сто раз пишите: «Нельзя сильно давить на резец при обработке вращающейся детали!» И чтобы к следующему уроку все выучили наизусть!
Этот подзатыльник и последующие сто раз техники безопасности я запомнил на всю жизнь. Лично я сделал за школьные годы скалок штук 30..
Перед последним уроком нас ждал долгожданный ритуал – поход в столовую. Это было не просто принятие пищи, это было священнодействие, кульминация школьного дня. Очередь в буфет была отдельным социумом, битвой за выживание. Здесь можно было узнать все последние новости: у кого появились новые кассеты с музыкой, кто кого «побил» за гаражами, обменяться вкладышами от жвачек. Воздух был густым и вкусным: сладкий запах компота из сухофруктов, душистый, дрожжевой аромат только что вынутых из духовки булок и вечный, ни с чем не сравнимый запах школьной котлеты.
Мы, отстояв очередь и сдав талоны, получили свои подносы с макаронами, котлетой и стаканом мутного компота. Мы уселись за наш привычный стол, заляпанный кашами и исчерченный перочинными ножами. И тут Витя, к нашему удивлению, снова достал из кармана смятые, засаленные рубли.
– Сегодня я богат! – объявил он и гордо направился к буфету.
Через минуту он вернулся с тремя румяными, дымящимися сосисками в тесте. Они стоили по три рубля пятьдесят копеек за штуку и были для нас недостижимой роскошью, желаннее любого пирожного. Мы ели их, обжигая пальцы и языки, смакуя каждый кусочек соленой сосиски и мягкого теста. Это был настоящий пир! Заедая эту роскошь макаронами, мы строили планы, как выкрутимся с родителями.
После столовки нас часто ждала физра. Но нашим физруком был не обычный учитель. Его звали Степан, и он был бывшим боксером. Он не был похож на других преподавателей. Крепкий, молчаливый, с разбитым носом и спокойным, но очень внимательным взглядом, он никогда не кричал. Но его уважали и побаивались все – от второклашек до десятиклассников. Он говорил мало, но его слова имели вес. Тренировки у него были жесткими, но честными. Он не заставлял нас просто бегать круги. Он учил нас правильно двигаться, дышать, держать удар – и не только в спорте.
Как-то раз после особенно напряженной тренировки по волейболу, когда мы, вспотевшие и красные, возились в раздевалке, к нам подошел Степан.
– Эй, бойцы, – сказал он своим низким, хриповатым голосом. – Вам что, дома делать нечего? Энергии – через край. Вижу, по стенам лезете. Хотите по-настоящему победить? Научиться себя контролировать?
Мы переглянулись, не понимая, к чему он ведет.
– Мы… не знаем, – пробормотал я от лица всей троицы.
– Боксом будете заниматься, – заявил Степан просто и четко. – После уроков. Три раза в неделю. Бесплатно. Приходите завтра в малый зал. Без опозданий.
Мы пришли. На первой тренировке в маленьком зальчике за главным спортзалом нам показалось, что мы умрем. Пахло потом, кожей перчаток и пылью. Степан показывал нам базовую стойку, как правильно сжимать кулаки, бинтовать руки, как бить по потрескавшейся от времени груше, как двигаться ногами. Он был строгим и требовательным тренером. Если кто-то ленился или делал вид, что устал, Степан молча подходил, поправлял стойку и говорил: «Еще раз. Сильнее. Ты можешь. Не ной». Мы уставали так, что еле волочили ноги, но через пару недель стали замечать изменения. Мы стали сильнее, выносливее, увереннее в себе. Эти тренировки стали для нас настоящим мужским братством, школой характера. Мы были не просто школьными друзьями, мы были командой, сплоченной общим делом.
Именно там, в душном малом зале, мы иногда видели ее. Юльку из десятого «А». Она была самой красивой и загадочной девчонкой в школе: длинные светлые волосы, собранные в высокий хвост, модные облегающие джинсы и смелый, уверенный взгляд. Она иногда заходила в зал, якобы чтобы передать Степану какую-то бумажку от завуча или учительницы. Она обращалась к нему не «Степан Игнатьевич», как мы, а просто «Степан», и улыбалась ему особой, взрослой и понимающей улыбкой. А он в эти моменты менялся. Суровое лицо его смягчалось, в глазах появлялась какая-то непонятная нам, тогдашним мальчишкам, грусть и теплота. Он становился другим человеком.
Мы, пацаны, конечно, все чувствовали и понимали на своем уровне, но вслух это никогда не обсуждали. Это была одна из тех взрослых, сложных тайн, которые витают в воздухе, но не произносятся вслух. Потом, уже ближе к концу учебного года, по школе поползли шепотом странные слухи. Что Юлька бросает школу и уезжает к тетке в другой город. Говорили, что у нее были «проблемы», «серьезные проблемы». И мы, проходя мимо Степана в коридоре или на тренировке, стали замечать в его глазах какую-то новую, глубокую усталость и отрешенность. Он стал еще молчаливее и строже. Но на тренировках он оставался все тем же собранным и требовательным тренером, выжимавшим из нас все соки. Эту историю мы больше никогда не вспоминали вслух, но она навсегда осталась в памяти как темный, взрослый штрих к портрету нашего детства, как часть той сложной и уже ушедшей эпохи.
После последнего урока мы высыпали на улицу, на свободу. Осенний воздух был холодным, свежим и невероятно вкусным после спертой школьной атмосферы. Мы шли через наш привычный пустырь – царство битого кирпича, ржавых банок и бурьяна.
– Ничего, – сказал Витя, пытаясь пнуть пустую банку из-под «Пепси» так, чтобы она улетела подальше. – Скажем родителям, что Зоя Петровна сама нас задержала помочь журналы донести, а потом забыла нас отпустить. Сработает. Проверено.
Серега лишь скептически хмыкнул, зная, что его мать, учительница в другой школе, в такую легенду никогда не поверит. Я молчал, думая о завтрашнем разговоре с отцом, представляя его строгое, разочарованное лицо. Но сейчас, шагая с друзьями по пустырю, чувствуя приятную усталость в натруженных мышцах после вчерашней боксерской тренировки и вспоминая сегодняшний полет скалки, я понимал, что мы справимся. Завтра будет новый школьный день, новые уроки, новые двойки, новые скалки и новые приключения. Но мы были вместе, а значит, все было не так уж и страшно. Мы были командой. И пока мы были вместе, никакая Зоя Петровна, никакая химия, никакие двадцатые скалки и даже сорвавшиеся со станка заготовки не могли сломить наш дух.
***
– Вась, идем! Сейчас или никогда! – прошептал он, пригибаясь, будто под огнем. – Череп сегодня добрый. Видел? Кивнул мне. Знак дает!
Череп. Слава Толстой. Четырнадцать лет, но казался нам здоровым и всесильным. Две густые, неопрятные черные космы, падавшие на лоб, вечно мутный, словно не просыхавший взгляд и главное – репутация «сидевшего». Ходили легенды, что он провел две недели в спецприемнике для несовершеннолетних. Для нас он был не просто старшеклассником – полубогом, хранителем огня в этой нише. Мы, как тени, протиснулись сквозь толпу младших, замерших в почтительном отдалении, к самой группе. Череп небрежно прислонился к закопченной стене, выпуская из тонких, бледных губ идеальные, медленно тающие в сыром воздухе колечки дыма.
– Чего, мелюзга? – хрипло процедил он, не меняя позы, лишь скосив на нас узкие, как щелки, глаза. В его голосе не было интереса, только привычное презрение. – Место занято. Давайте нахер отсюда.
Сердце ушло в пятки. Но Витя, наш бесстрашный дипломат, не дрогнул.