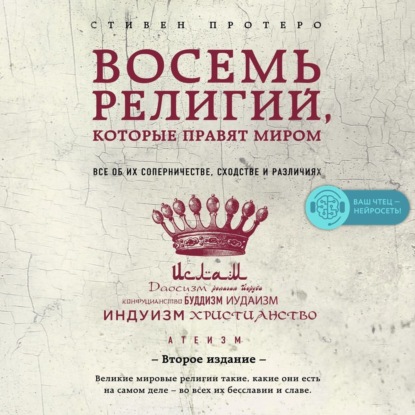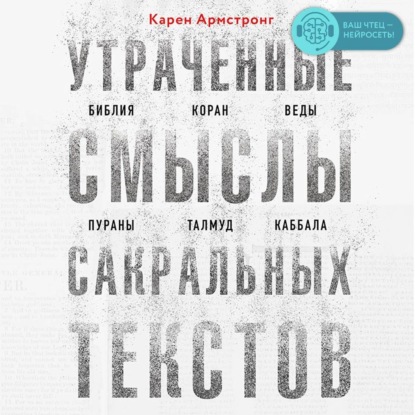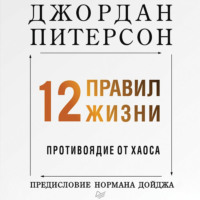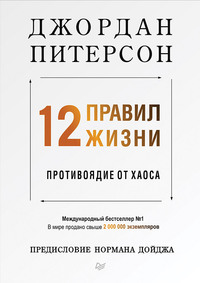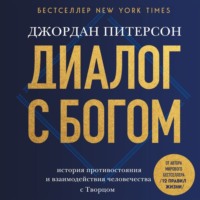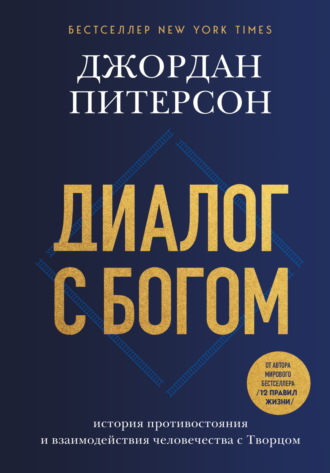
Полная версия
Диалог с Богом. История противостояния и взаимодействия человечества с Творцом
Дух человека на вершине
Мужчина и женщина слышат, что в новом творении Бога им предначертано «обладать» землей – что интересно, после того, как они ее «наполнят». Эта идея стала предметом широкой критики, не в последнюю очередь из-за ее развития в следующем стихе, наделившем первых людей правом властвовать над рыбами, птицами и «над всяким животным». Те, кто уверяет, что высшего места достойно нечто иное, возвышают свой голос против духа, запечатленного в этих словах, и склонны считать, что превозносить, прославлять и почитать нужно вовсе не мужчину и не женщину в их отношениях с Богом. Обратим внимание на то, как высказался по этому поводу профессор истории Линн Уайт, и процитируем его знаменитое эссе «Исторические корни нашего экологического кризиса» (1967):
Христианство, особенно в его западной форме, – самая антропоцентрическая религия, которую видел мир. Уже во втором столетии и Тертуллиан, и святой Ириней Лионский настаивали, что, когда Бог создавал Адама, он уже предвосхищал образ воплощенного Христа, Второго Адама. Человек разделяет, в большой мере, превосходство Бога над Природой. Христианство, на абсолютном контрасте древнему язычеству и религиям Азии (кроме, возможно, зороастризма), не только установило двойственность человека и природы, но также и настояло, что это – воля Божия и что природа должна эксплуатироваться человеком до его собственного конца… В старину каждое дерево, каждый поток, каждый холм имели собственного духа места, доброго духа-опекуна. Эти духи были не похожи на Человека – кентавры, фавны, сирены (русалки) демонстрируют их двойственный облик [человек и животное]. Перед тем как срубить дерево, выкопать шахту в горе или поставить запруду на ручье, важно было умиротворить дух, «отвечающий» за данный объект, и поддерживать его в этом умиротворенном состоянии. Разрушая языческий анимизм, христианство позволяло эксплуатировать природу в состоянии безразличия к «чувствам» природных объектов.
В чем нас стремится уверить Уайт? В том, что возвышать «всего лишь» человека аморально; в том, что на первое место нужно поставить не мужчину и женщину, не общество и не благополучие людей, а неопределенный термин природа или, хуже того, окружающая среда. Такие возражения, теоретически сделанные от имени природы, на первый взгляд красивы, и в них слышны даже отзвуки альтруизма и смирения (с чего бы человеку, этой эволюционной случайности, бесцеремонно занимать авансцену?) – но на самом деле они несут в себе совершенно противоположный смысл. Если возвысить природу над человеком настолько, что трансцендентный дух появится у любого ручейка, тогда и мужчина, и женщина, и ребенок в силу необходимости окажутся ниже нее. В идеальном представлении это, видимо, должно вести к тому, что люди по достоинству оценят чудеса природы. Однако на деле исход слишком часто оказывается другим, и уже самим людям уделяется не больше внимания, чем сорнякам или крысам. Эта перестановка ценностей дает возможность не для владычества над землей, а скорее для эксплуатации тех, кого ставят на один уровень с низшими формами жизни, – причем эксплуататорами становятся люди именно такого сорта, которые вечно выходят на первый план, чтобы обратить подобное преимущество во зло.
Подобные моральные отповеди слышны и от тех, кого раздражает указание наполнять землю. («Плодитесь и размножайтесь», Быт 1:28.) Впрочем, оно звучит в очень особенном контексте: эти слова вдохновлены духом, уже призвавшим в бытие упорядоченный мир, который хорош, и хорош весьма, и этот мир становится все лучше, причем не в последнюю очередь при помощи людей. Это означает, что все наши инициативы, направленные на сотворение, и в том числе создание семьи, должны носить восполняющий характер, как ясно говорится в упомянутом стихе и подразумевается в предшествующих, – здесь наиболее правдиво отражен дух Создателя. Владычество людей над землей должно быть неистощительным, пусть даже смысл этого слова слегка «подпорчен» его ассоциацией с идеологическим насилием; хорошее должно стать еще лучше. Нашу планету нельзя эгоистично превращать в бесплодную пустыню, поскольку в свете этой стратегии указание «плодиться и размножаться» покажется бессмысленным практически моментально, если мерить прогресс поколениями. Поэтому Адам, первый человек, и призван «возделывать и хранить» вечный сад (Быт 2:15), названный Эдемом («обильно орошаемое место») и раем, или парадизом («сад, огражденный стеной»). Эта оптимизированная окружающая среда – тонкое равновесие, установленное между материальным миром и общественным устройством, которое лучше всего позволяет каждому человеку – и более того, каждой паре и впоследствии семье – отделить себе часть творения, а затем трудиться и жертвовать, чтобы сделать ее частью упорядоченного мира, который хорош, и хорош весьма.
С этим плодотворным и дальновидным отношением согласуются и последующие библейские предписания оставлять землю в покое (Исх 23:11) и заботиться о рабочем скоте: «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» (Притч 12:10). «Не заграждай рта волу, когда он молотит» (Втор 25:4). «А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой» (Исх 20:10). Последний фрагмент особенно впечатляет: в нем говорится, что отдых нужно давать даже тем, над кем легко властвовать, превышая свои полномочия. Эти принципы заботы отражают еще более глубокую идею, пронизывающую весь свод библейских текстов, – идею, которая гласит, что именно благодаря наивысшим нравственным усилиям реки живой воды становятся столь полноводными, что могут превратить даже пустыню в цветущий сад.
Кроме того, слово «владычествовать» не означает «всецело поглощать», и анафема всем тем, кто уверяет в ином. Божественное неизменно противится деспоту (Исх 7–14) и – устами пророка – предупреждает о том, что даже правление «благосклонных» царей таит в себе угрозу (1 Цар 8:10–18). Более того, Бог представлен (определен) как дух, карающий великих людей и даже архетипических предводителей народа, если те поддаются искушениям и прибегают к принуждению и насилию (Чис 20:12). Завершающий штрих, конечно же, добавляют примеры сперва Иова, а затем Христа, о которых мы подробно поговорим в предстоящей книге; и тот и другой отказываются от «силовых решений» даже в самых провокационных и отчаянных ситуациях. «Владычество» – это не «повелевающий контроль», а придание всему должной ценности, распределение всего по правильным местам, в иерархическом порядке, призванное установить приоритеты внимания и действия и сделать так, чтобы мир перестал пребывать в состоянии хаоса или простого обилия потенциальных возможностей. Факт этой ответственности особо подчеркивается во второй главе книги Бытия, в рассказе о второй части творения, где Бог сперва «образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их» (Быт 2:19). Этот стих явно подразумевает, что сотворение, предпринятое Логосом, или Словом Божьим, каким-то образом оставалось незавершенным до тех пор, пока дальнейшее различие не провел человек, чье решение в таких вопросах, как ни странно, представляется окончательным: «…и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» (Быт 2:19–20).
Адам властвует и нарекает имена. Это действия человеческого сознания – и, может быть, даже его суть. Причем если учесть зависимость бытия от этого сознания (поскольку без него бытие непредставимо и даже невозможно), тогда сознание – это суть того, что лежит в основе бытия. Это божественный Создатель, сотворивший все; это невыразимая действительность, от которой зависит вся проявленная реальность. Вероятно, это Слово, о котором книга Бытия – и намного позже апостол Иоанн – говорят как о бывшем «в начале» (Ин 1:1). Герой – дух Адама, созданный по образу духа, сотворившего мир, – это активный процесс властвования и наречения имен, это присвоение ценности, благодаря которому становятся возможными восприятие, смысл и даже само существование. Он извечно противостоит первозданному хаосу – водам и пустоте, над которыми движется дух Божий. Это обилие возможностей, пока еще бесформенное – Великая Мать, матрица, из которой является действительность; это первоматерия, из которой изначально «создано» все осязаемое и реальное. И все это создается героем – поэтому крайне важно то, что у людей, сотворенных Богом, есть одновременно несомненное и жизненно необходимое занятие, поистине важное даже в космической схеме.
Реальное и его репрезентация
Что может быть реальнее, чем факты? Но вот какие именно? Этот вопрос и становится камнем преткновения, из-за чего в основе любой цельной души и любого объединенного сообщества лежат архетипические истории. Благодаря им создается структура, посредством которой мы постигаем факты и сообщаем другим об иерархии ценностей, придающей какому-либо из них дополнительную важность. В великих историях отражены стремления, которые побуждают нас к действиям и обеспечивают каждому из нас безопасность, а в дальнейшем, когда их разделяют многие, составляют фундамент, на котором строится общество. Без этих стремлений невозможен даже акт восприятия, позволяющий нам хотя бы соприкоснуться с тем, что существует в действительности, – в полном смысле этого слова. У историй, в которых отображены наши цели и наш характер, есть главная, исходная реальность, в немалой степени потому, что наше осмысление реального – и даже «непосредственное» восприятие фактов – априори зависит от наличия этих отображений. Реальны ли факты в большей мере, чем инструмент, благодаря которому мы можем их установить? Мы видим мир сквозь призму истории, и никак иначе. Можно лишь уточнить эту формулировку: мы видим мир через структуру, которая, если изобразить ее в драме или выразить словами, представляет собой историю.
Наши научные достижения столь велики, что мы сумели понять – так ясно, как никогда прежде, – как устроен язык, положенный в основу истории, и почему это имеет значение для любого, кого влекут истории, особенно в их величайшей форме. В корпусе любого языка присутствует эмпирически выводимая смысловая кодировка, которую возможно отобразить как статистическую зависимость между буквами, словами, фразами, предложениями, абзацами и так далее, – и это позволяет восходить все выше по живому древу Логоса. Слово можно опознать, поскольку оно вписывается в математическую модель взаимоотношений между буквами, описывающую все постижимые слова. Именно благодаря ей становятся правдоподобными различные «псевдослова», скажем, калуша, хливкий и дудониться, и она же позволяет с первого взгляда отличить их от неправдоподобных «псевдослов», таких как кйлк, зкснг и квлелрлтл, или даже более радикального м4а3с2т1р. Правдоподобные «псевдослова» строятся в соответствии со звуковыми моделями языка, в котором создаются. Для них характерны сочетания согласных и гласных звуков, которые можно произнести на том или ином языке и которые известны говорящим, – в то время как в неправдоподобных «псевдословах», напротив, встречаются сочетания букв, незнакомые тем, кто говорит на этом языке, или непроизносимые на нем.
То же самое происходит на «высших» или «более фундаментальных» уровнях смысла. Точно так же, как есть исчислимая вероятность того, что определенная буква будет следовать за какой-либо другой (на самом деле есть даже иерархия такой вероятности; например, в английском языке она выражается в том, что буква e следует за любой согласной с большей вероятностью, чем буква a, но появление a после согласной более вероятно, чем появление q), существует высокая и измеримая вероятность того, что любая определенная фраза и, следовательно, идея встретятся или будут существовать в тесном соседстве с сетью других идей, близких по значению – так называемых символических ассоциаций, призванных не обозначить смысл рассматриваемой фразы, а придать ему дополнительные оттенки – коннотации. В хорошо сочиненной истории любая сеть таких ассоциаций окружена другими сетями, сравнительно похожими, и противопоставлена несходным.
Эта сеть, со временем все более широкая, составляет ландшафт смысла. На лингвистическом уровне он содержит идеи со сходным и эквивалентным значением – или же такие, вероятность появления которых в непосредственной близости друг от друга довольно высока. Например, слово дракон, скорее всего, встретится рядом с такими словами, как «огнедышащий», «мифический», «легендарный», «существо», «змея», «зверь», «фэнтези», «фольклор», «мифология», «хранитель сокровищ»; слово ведьма – рядом со словами «магия», «заклинание», «метла», «котел», «фамильяр», «черные одежды», «шляпа», «колдовство», «зелье» и «шабаш»; слово отец – со словами «любовь», «семья», «поддержка», «руководство», «пример для подражания», «наставник», «кормилец», «защитник», «наследие», «мудрость» и «волшебство»; слово злодей – со словами «зло», «антагонист», «нечестивый», «гнусный», «злобный», «презренный», «порочный», «злонамеренный», «беспринципный» и «дьявольский». За пределами лингвистического уровня этот ландшафт существует в мире образов и поступков. Легко вспомнить уместные примеры из популярной культуры: во второй книге о Гарри Поттере это василиск – дракон, чей взгляд убивает или по крайней мере превращает в камень (вспомним кролика, цепенеющего под волчьим взглядом), и от яда которого исцеляют – таинственно – слезы феникса; это Джеппетто в «Пиноккио» – отец, всем сердцем желающий, чтобы его сын, деревянная марионетка, мог освободиться от предначертанной судьбы и оборвать нити, определяющие его участь (влечение к обману; искушение невротической жертвенностью; недостойный бунт из преступной жажды наслаждений); это Джокер в «Темном рыцаре» – злодей столь вероломный, что даже этос подлецов и негодяев не в силах передать всю глубину его падения.
Кстати, у образов подобная связь сильнее и глубже, чем у слов, поскольку образ способен одновременно выразить огромное множество идей, а язык в этом плане более ограничен; наверное, особенно это заметно в кино. Возможность для ассоциаций возникает благодаря тому, что в мире нашего внимания и действия существуют образцы характера, проявление которых по отношению друг к другу мы можем распознавать на регулярной основе. Будь это не так, мы бы просто не смогли ни поддерживать тесное общение, ни даже сохранять собственную цельность, поскольку воцарившаяся непредсказуемость оказалась бы эмоционально нестерпимой, и, несомненно, мы никогда бы не смогли объединиться в стремлении к совместной цели.
Именно эта модель ассоциаций лучше всего позволяет понять идею символа. Символизация – это не просто замена, сокрытие или ложное замещение, близкие к «вытеснению», о котором говорил Зигмунд Фрейд. Это процесс, благодаря которому в сознании при виде слова или картины одновременно возникает множество идей и образов – и четко представляются уместность, значимость, последствия или смысл того, с чем ассоциируется символ. Тот же эффект способна оказать модель внимания и действия в реальном мире: незнакомец может напомнить нам старого друга или врага, сестру или брата – или даже нечто более фундаментальное и архетипическое, вызвав в памяти образ героя или злодея. Так на нас действуют, скажем, изумление и восторг, охватывающие душу в присутствии харизматичного человека, – или же, напротив, чувство неловкости, внутренний дискомфорт, смятение и отвращение. Фактически, те, кто оказывает на нас подобное влияние, своими действиями претворяют в жизнь духовный образец, отчего мы невольно замечаем больше, чем нужно для простого и непосредственного восприятия, – и вовлекаемся, поскольку чувствуем, что перед нами, возможно, происходит нечто серьезное и что нам необходимо в этом разобраться.
И хотя символическое значение, как правило, считалось в большей или меньшей степени, или даже неограниченно и неизменно открытым для интерпретаций – эту идею довели до крайности корифеи постмодернизма, – однако представление о том, что в совместной встречаемости слов, образов и поступков можно выявить определенную статистическую закономерность, вряд ли можно считать радикальным. Отражение этой закономерности в культуре кажется совершенно очевидным. Если бы у нас появился шанс собрать все тексты, созданные тем или иным обществом, и отобразить взаимосвязь выраженных в них слов и концепций, тогда создание математической модели смысла – по крайней мере на лингвистическом уровне – по всей вероятности, оказалось бы возможным, хотя бы в той мере, в какой эта модель стала бы одновременно логически связной и постижимой. Более того, сейчас у нас есть неоспоримые доказательства существования именно для такой репрезентации – «Большие языковые модели». Эти платформы искусственного интеллекта оперируют колоссальным множеством параметров (некоторые наблюдатели оценили это число в 1,76 трлн для GPT-4), при помощи которых точно определяют взаимосвязь слов и идей во множестве текстов, ставших «учебным материалом». Впрочем, в силу самых разнообразных причин никто до сих пор не может с уверенностью сказать, позволит ли даже столь обширная текстовая библиотека обучить статистическую модель с неискаженной репрезентацией лингвистической карты смысла – и это большая проблема как в практическом, так и в теоретическом плане. Одни искажения возникают из-за манипуляций разработчиков; другие – оттого, что при отборе материалов предпочтение отдается современным произведениям, поскольку электронный текст доступнее всего. Впрочем, никакие подобные возражения не могут подорвать главную идею: смысл можно отобразить, и карты не обязательно будут воображаемыми, субъективными или произвольными.
Повторим: этот ландшафт лингвистического значения, выявляемый математически, составлен не только из взаимосвязи слов и в дальнейшем словосочетаний и предложений, но также из отношений абзацев и глав, в которых они запечатлены, – и так до самого конца восходящей иерархии концептуальных представлений. Это, в частности, позволяет предположить, – а может быть, даже неминуемо и неизбежно означает, – что у любой сети постижимых смыслов есть свой имплицитный центр. Например, у слов «живая природа», «домашний питомец», «рыба», «млекопитающее», «позвоночное», «птица», «рептилия», «насекомое» и «амфибия» таким центром станет слово животное. В каком-то смысле этот центр, объединивший множество идей, связанных на основе ассоциации, сродни душе этого множества (или даже его богу?). Это не мертвая статистическая зависимость между буквами и словами в корпусе печатного текста. Это взаимосвязь в умах – в коллективном метапространстве человеческого воображения, где эти родственные идеи представляют собой живую силу или даже сущность. Оживотворяющие, организующие, побуждающие к действию, они похожи не на простые математические зависимости, а на героев, стремящихся к цели и наделенных характером. Модель таких идей можно репрезентировать как животворящий дух – не статичный и не мертвый, а действующий и подвижный; такая оценка будет уместной и эффективной.
Вспомним, как настоятельно Христос повторяет, что Слово Божие можно уподобить зерну. В притче о горчичном зерне (Мф 13:31–32; Мк 4:30–32; Лк 13:18–19) говорится, что Царствие Небесное содержится внутри и появляется из чего-то малого, но исполненного жизни. В притче о сеятеле (Лк 8:5–15; Мф 13:3–23; Мк 4:3–20) те, кто слушает, и те, у кого это не получается, сравниваются с землей. Одни семена падают при дороге (те, кто слушает, но не понимает); другие – на каменистую землю (те, кто принимает слово с радостью, но отпадают); иные – в терние (те, кто пребывает под гнетом забот, богатств и житейских удовольствий); а некоторые – на добрую землю (те, кто слышит, хранит и приносит плод). Этот мотив развит в притче о пшенице и плевелах (Мф 13:24–30; Мф 13:36–43), где говорится о том, что в душе человеческой могут прорастать разные семена, поэтому многие («плевелы») поддаются искушению и вступают на путь вечного врага, в то время как другие («сыны Царствия» [Мф 13:38]) отдают себя во власть духа, зовущего принести жертву высшему, – того самого духа, которым отличается искупительный завет с Богом.
Именно поэтому Христос так упорно призывает беречься лживой, заразной, даже смертельной «закваски фарисейской» (Лк 12:1; Мф 16:6). В повествовании о Страстях Христовых фарисеям отводится роль религиозных лицемеров, ловко манипулирующих традицией и заботящихся лишь о собственном благе (Мк 7:6–9), – а также притязающих на то, что они, подобно Адаму и Еве, наделены правом устанавливать нравственный порядок, нужный им лишь для того, чтобы вероломно возвыситься в обществе (о чем Христос отзывается крайне неодобрительно в Мф 23). Этот грех сродни нарушению третьей заповеди: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх 20:7). Вопреки распространенному мнению, она направлена не на борьбу с беспечным грехом нечестивой брани или богохульства, а против гораздо более серьезной ошибки – притязания на верность божественному порядку и на его понимание лишь ради ублажения собственной корысти. Трудно представить более вопиющее и пагубное стремление, которое не приносит религии ничего, кроме дурной славы и обвинений в лицемерии. Поистине, из злого семени произрастают горькие плоды.
Немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель выдвинул идею, тоже основанную на ассоциативном значении, в рассуждении о Zeitgeist – этим словом и сейчас обозначают «дух времени». Именно Zeitgeist придает старым фотографиям облик эпохи, в которой они созданы, – стиль или характерные черты, свойственные каждому в то время и в том месте, когда люди восхищаются друг другом и подражают друг другу. Та же идея животворящего духа (пусть даже в патологической или «фарисейской» форме) присутствует в произведениях Александра Солженицына, величайшего интерпретатора трагедий советской эпохи. Он ясно показал, что злодейства, совершенные коммунистической властью, возникли не из-за отклонения от духа марксизма – гипотетически чистого и нравственного, – но были прямым следствием яда, присущего жуткой доктрине, пронизанной обвинениями и каиновой завистью. Воистину: «Каждый по способностям каждому по потребностям!» Вокруг этой центральной идеи – точки опоры, штандарта, столпа – развертывается сеть идей, образов и поступков. Сеть, состоящая из живых разумов, выходит за пределы простой «системы идей» – она становится характером, который охватывает всю культуру в целом, принимая форму Zeitgeist, и слишком часто проявляется в железной хватке идеологии, низводящей любого отдельного человека до безвольной марионетки или рупора. Лучше всего считать такие сети живыми – одновременно сверхличностными и личностными; абстрактными, ибо отчасти они представляют собой взаимосвязь идей, однако в то же время и конкретными, поскольку они влекут легкомысленных и злобных гордецов, с радостью готовых откликнуться на приглашение, – а в дальнейшем распространяют свою власть на все аспекты их бытия.
Именно на эту одержимость живой идеей пытался указать в своих работах швейцарский психолог Карл Густав Юнг. Он связывал ее с идеей Бога, которую – гипотетически – подвергли жесточайшей критике мыслители эпохи Просвещения. Именно такую связь он имел в виду, говоря о «комплексе» – представлении, истоки которого восходили к методу свободных ассоциаций, открытому и популяризованному Зигмундом Фрейдом. Именно поэтому на арке над входом в свой каменный дом-замок, возведенный в швейцарском Кюснахте и ставший ему убежищем в последние годы, Юнг вырезал слова: Vocatus atqua non vocatus deus aderit («Зовешь ты или не зовешь Бога, он все равно придет»). Если центр сети идей, которым иногда становится символ, репрезентирован, а в особенности – обозначен определенным словом или понятием («назван»), тогда это значит, что он осознан или осмыслен – или даже сделан реальным (?). Если же это не так, или если этого еще не произошло, то он по-прежнему может оставаться имплицитным – зашифрованным в отношениях идей, или образов, или поступков, – но ему еще не дано имени, и еще никто не утвердил над ним власть. Это, за неимением лучшего слова, бессознательное.
Равно так же, если подобный центр некогда существовал и был распознан, но в дальнейшем его игнорировали, легкомысленно забыли или откровенно отвергли, тогда он оставлен – или мертв. Это состояние покинутости, или пребывания в бессознательном, отражено, умозрительно постигнуто, охарактеризовано или описано в архетипическом повествовательном тропе: героя проглатывает чудовище, и он, «ни жив ни мертв», сидит в его брюхе, как пророк Иона, как Джеппетто из «Пиноккио», как умерший бог Осирис в подземном царстве или как Бог иудеохристианского мира, провозглашением смерти которого прославился Ницше: «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили!». Кстати, то, что истинно для слов, истинно и для образов, порожденных фантазией, и для драм, руководящих нами и содержащих дальнейшую «карту смыслов», в которой представлены поведенческие модели, ритуалы и обычаи наших культур. Независимо от того, признаем ли мы существование их животворящего центра, он есть, и он играет каузальную роль в определении моделей внимания и действия как отдельно взятой личности, так и коллектива. Бесспорно, это уже немало – но, тем не менее, это еще не все. Эта поведенческая и культурная основа, по-прежнему по большей части имплицитная (поскольку речь идет о действии, а не о его репрезентации в слове или образе), отражает устройство упорядоченного и умопостигаемого мира, зашифрованного на нашей карте: так смерть, вызванная падением с моста в бурную реку, отражает взаимосвязь знания и реальности; так в человеческой душе отражается космическая бездна. И даже когда Бог умер, Он поддерживает свое существование не только в глубинах, но и в структурированном порядке самого бытия и становления.