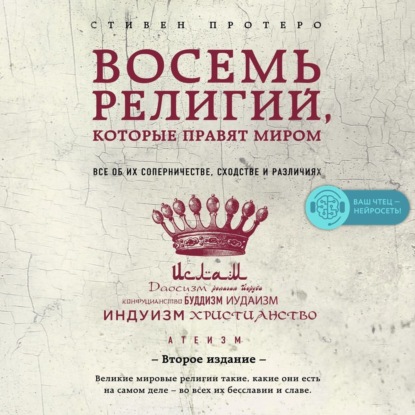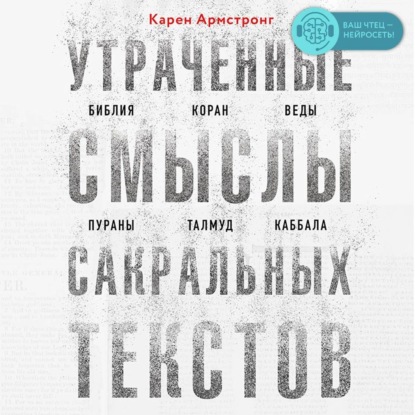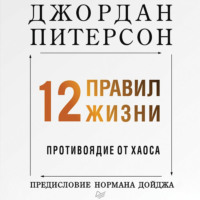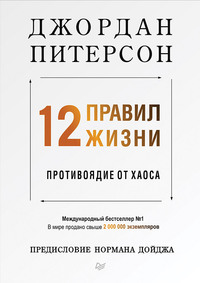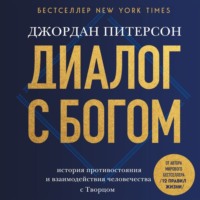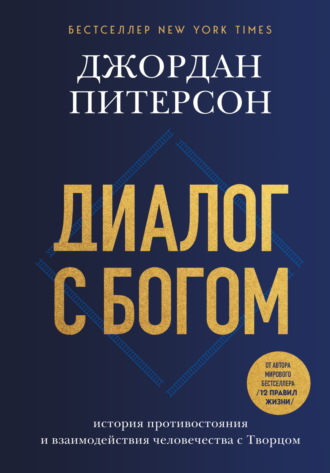
Полная версия
Диалог с Богом. История противостояния и взаимодействия человечества с Творцом

Джордан Бернт Питерсон
Диалог с Богом. История противостояния и взаимодействия человечества с Творцом
Моей недавно почившей матери
Беверли Энн Питерсон,
боровшейся с Богом,
как боремся мы все
(но испытавшей больше счастья, чем печали)
Серия «Религии, которые правят миром»
Jordan Peterson
WE WHO WRESTLE WITH GOD
Copyright © 2024 by Jordan Peterson
Художественное оформление Петра Петрова и Андрея Гусева
Литературный редактор Ирина Булгакова

© ИП Измайлов В. А., перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Утеха падали
Нет, падали оплот, Отчаянье, не дамТебе торжествовать, когда терпеть невмочь,Не возоплю, и гнет смогу я превозмочь,И узы жизни сей не разрублю я сам.Но как терзаешь ты – под лапой льва костямНевмочь, под гнетом глыб, что могут растолочь,А взгляд пронзает так, что без оглядки прочьГотов бежать, лететь, как дань твоим ветрам.Пусть требуха летит, зерно ж мое поспело,Я после всех трудов порадоваться б мог,Благодарить, что сил набрались дух и тело,За труд, за кнут (ужель?) – отпраздновать итог,Благодарить того, кто топчет оголтело?Боролся до утра (мой Бог!) с тобой, мой Бог.Пер. Я. ПробштейнаИстория Высших Существ небесного порядка имеет первостепенное значение, если мы хотим понять историю религии человечества в целом. Разумеется, мы и не думаем представить ее здесь на нескольких страницах. Однако мы полагали важным напомнить об одном факте, который, на наш взгляд, играет важнейшую роль. Высшие Существа небесного порядка постепенно покидают культы: они «отдаляются» от человека, уходят в небо и становятся бездеятельными богами. Эти боги, создав Космос, дав человеку жизнь, чувствуют усталость, как если бы великий промысел Сотворения исчерпал их ресурсы. Они укрываются в Небе…
Мирча Элиаде. Священное и мирскоеПредвестие: тихий, кроткий голос
Свое путешествие – свою борьбу с Богом – мы начнем с особенной истории. Ее драматическая форма, столь характерная для библейских повествований, позволила запечатлеть невероятно важную идею, благодаря которой мы, может быть, поймем, почему эти древние предания, все чаще отвергаемые нами, заслуживают нашего внимания. Это история пророка Илии – и она уникальна тем, что в ней мы встретим одно из самых главных описаний или определений Бога. Илия жил в Израиле в IX веке до нашей эры, в дни, когда там правили Ахав и Иезавель. Рассказ о нем краток, но среди пророков Илия занимает достойное место, и тому есть две причины: во-первых, странное «отбытие», которым завершилась его земная жизнь, а во-вторых – его появление на вершине горы Фавор, где он вместе с пророком Моисеем беседовал с Иисусом из Назарета, явившим ученикам свою божественную природу (Мф 17:1–9; Мк 9:2–8; Лк 9:28–37). Латинские переводчики Библии назвали это событие Преображением Господним, а в греческом оригинале говорилось о метаморфозе, со всеми оттенками смысла, какие подразумевает глубочайшая трансформация гусеницы в бабочку. Примерно столь же радикально, как и крылатые насекомые, растут и развиваются взрослеющие люди – если, конечно, мы будем исходить из того, что люди взрослеют со временем. Апостол Павел выразил эту мысль в Первом послании к Коринфянам: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое» (1 Кор 13:11). Поэтому никак нельзя оставить без внимания тот факт, что греческое слово ψυχή («псюхе»), к которому восходит термин «психология», обозначает не только человеческий дух или душу, но и – в буквальном смысле – бабочку.
Однако сколь бы ярким ни был образ бабочки-души, раскрывающий перед нами глубинную связь обоих явлений, это далеко не единственное основание для их сравнения. Стоит напомнить и о том, на какие чудеса ориентировки способны летящие бабочки – и это кажется почти что сверхъестественным, если принять во внимание их хрупкость и «ограниченный» интеллект. В талантах навигатора – и, может быть, в характере преград, встающих на пути, а также в мимолетности их жизни – они похожи на людей, сумевших добраться из родной Африки до всех уголков планеты, даже до самых дальних и негостеприимных. Кроме того, обладательницы тончайших крылышек, подобных паутинке, отличаются не только невероятной красотой и исключительной симметрией, но и поразительным умением их воспринимать, с потрясающей точностью находя отклонения от эталона при выборе партнеров. Это знак развитой способности судить, ориентируясь на идеал, в чем можно усмотреть очередное сходство человеческой души и безупречно сотворенной представительницы земной фауны. Но в чем здесь связь с историей об Илии и с представлением о смысле жизни? В том, что характер его смерти, а также последующее появление пророка рядом с преобразившимся Христом репрезентируют способность души к качественным и революционным переменам – или, иными словами, являются символами этой способности.
Из Четвертой книги Царств мы узнаем, что Илия взят на небо живым. В Ветхом Завете такой привилегии удостоены лишь он и пророк Енох (Быт 5:24). Конечно же, так возносится в Царство Небесное воскресший Иисус (Лк 24:50–53; Деян 1:9–11) – это неотъемлемая часть христианской традиции. Кроме того, в большей части христианского мира признается догмат о Вознесении Девы Марии – или о Взятии Пресвятой Девы в небесную славу душой и телом по окончании ее земной жизни, – но на этом подобные явления заканчиваются. Вознесение или принятие в божественное царство указывает на присутствие достойнейших. Итак, в дни, когда Илия готовится к подступающей смерти, Елисей, его ученик и преемник, сопровождает пророка на пути из Галгала в Вефиль. В Библии оба этих топонима наделены глубоким смыслом. В Галгале израильтяне поставили двенадцать камней, взятых из Иордана – в память о том, что Господь, иссушив речные воды, безопасно провел их в землю обетованную (Нав 4:19–24). Вефиль – «дом Божий» – впервые упомянут в книге Бытия (Быт 28:10–22). Именно здесь Иакову, будущему израильскому патриарху, снится лестница, по которой восходят и нисходят ангелы, посредники между божественным миром и людьми. И именно в этом сне с ним беседует Бог, вновь подтверждая завет, прежде заключенный с другими патриархами, Авраамом и Исааком, и обещая ему многочисленное потомство, землю и божественную защиту. Любая история о странствии героев от места, где некогда случилось нечто важное, в место столь же или еще более великое, призвана выразить идею «знакового путешествия» – это рассказ о жизненном пути, оптимально рискованном и исполненном наивысшего смысла. Именно поэтому в последнем, величайшем приключении Илии и Елисея фигурирует Вефиль – то самое место, где Иаков видел лестницу, соединившую землю и небо.
Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что́ сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне.
И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет.
Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо.
Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части.
4 Цар 2:9–12Огненные кони, колесница и вихрь доставляют Илию в Царствие Божие – подобно крыльям, на которых бабочка, искательница идеальной красоты и навигатор экстра-класса, взлетает в небеса по завершении своей метаморфозы. Именно вознесение в божественный мир позволяет пророку по прошествии времени явиться рядом с Иисусом на вершине Фавора.
По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
Мф 17:1–6Подобным образом в библейских историях преображается и Моисей, внушая свидетелям благоговейный трепет: «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему» (Исх 34:29–30). Это сияние рождено встречей – одновременным совместным проявлением – предельной вершины (можно выразить это так) и обыкновенной человеческой нормальности, и оно указывает на нисхождение божественного к мирскому – или на восхождение земного к высшему.
Если обратить внимание на символический план, то станет совершенно ясно, почему столь радикальные перемены в характере или превращения души происходят на горных вершинах. Вершина святой горы – это мифическое место, где соприкасаются небо и земля, а простая материя встречается с божественным и запредельным. Более того, изобразив жизнь как череду восхождений, мы не погрешим против истины. Пессимисты увидят в этом страшную участь Сизифа, обреченного вечно закатывать на гору огромный валун лишь для того, чтобы тот скатился обратно и все повторилось сначала. Более оптимистический взгляд позволит усмотреть в этом возможности для личного преображения. Любое восхождение на новый пик – иными словами, достижение цели – свидетельствует, что мы успешно завершили дело, воплотили задуманный план и выросли по сравнению с собой прежним. Когда мы оказываемся на вершине – хотя бы на той, к какой стремились сейчас, – перед нами простирается весь мир и, помимо прочего – следующий вызов, новая возможность играть, взрослеть и развиваться, новый призыв к преображающей жертве. Непрерывное движение вверх, отображенное в серии подъемов с их неповторимыми пиковыми переживаниями – это вариант пути, символом которого стала лестница Иакова: по спирали наверх, в небеса, к Царству Божьему, причем сам Бог манит нас за собой, пребывая в высшей точке – на вершине высочайшей умопостигаемой горы.
Однако поразительная смерть Илии и его окончательное преображение – это далеко не все, что скрыто в истории великого пророка. В эпоху, на которую пришлась его жизнь, некогда единое Израильское царство уже распалось. Его южная часть стала называться Иудеей, а в северной, сохранившей прежнее имя, властвовал царь Ахав – угнетатель, возжелавший склонить израильтян к поклонению чужеземным богам и к отречению от Яхве, традиционного божества Авраама, Исаака и избранного народа. Он извратил «прямые пути» после женитьбы на Иезавели, богатой и знатной финикийской царевне, и вместе с ней в Израиль пришел ложный бог – Ваал, божество природы, чтимое в Финикии и Ханаане, громовержец и податель плодородия, дождей и росы. В стремлении внедрить новый культ царица действовала крайне прямолинейно – иначе и не скажешь – и по мере своих попыток убила большую часть пророков Яхве. Библия гласит, что муж Иезавели, совершенно ей подвластный, «более всех царей Израильских, которые были прежде него… делал то, что раздражает Господа Бога Израилева» (3 Цар 16:33). Лишь Илия, возвышая голос против слабого идолопоклонника, грозил царю тем, что его дурное правление навлечет на Израиль годы жесточайшей засухи, когда не будет даже росы.
Поскольку служители Ваала провозглашали, что именно он волен послать животворящий дождь, засуха, предсказанная Илией, несомненно подорвала и их авторитет, и веру в их бога, и доверие народа к царю Ахаву и чужестранке Иезавели. Литературный мотив «выжженного царства», примененный в этом фрагменте повествования – это троп, символический образ с устоявшимся значением. Его примером станет шедевр диснеевской анимации, «Король Лев», где вслед за свержением Муфасы, истинного короля Земель Прайда, и изгнанием его сына Симбы на окраину королевства прекращается дождь, – отчего и сами львы теряют пропитание, поскольку звери, на которых они охотятся, умирают от жажды. Когда же Симба возвращает себе трон, небеса снова дают земле живительную влагу. В сказке братьев Гримм «Живая вода» этот мотив получает развитие и отражен в приключениях младшего брата, уходящего на поиски воды, способной вернуть умирающего отца к жизни. Присутствует он и в книге Исход – в противопоставлении «каменной» непреклонности жестокосердного фараона и активной власти Моисея над водой. Когда в абсолют возводится ложный принцип – когда на трон восходит незаконный король или правят нечестие и беззаконие, – люди в самом скором времени понимают, что лишились воды, дарившей им жизнь. Впрочем, если посмотреть глубже, то в царстве, ориентированном на неправильный полюс, – иными словами, в том, где почитают ложных богов, – непременно будут страдать и душа, и дух народа.
Пророк возвещает засуху и удаляется в пустыню. Вороны носят ему хлеб и мясо, а пьет он из ручья, но тот со временем пересыхает, – и Бог направляет Илию в Сарепту, к некой вдове. Встретив ее у колодца, пророк просит воды и хлеба и в ответ слышит: «Жив Господь Бог твой! у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине; и вот, я наберу полена два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего; съедим это и умрем» (3 Цар 17:12). Илия вновь вселяет в нее веру, сказав, что Бог не попустит нужды в ее доме: «…ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю» (3 Цар 17:14). Не странно ли, что посланнику Бога приходится просить пищи у неимущей вдовы? Но библейские истории сложны, в них скрыт глубокий смысл, уловить который непросто. Акцент здесь, во-первых, сделан именно на том, что важны даже простые и скромные люди (вдова); во-вторых, на том, что даже в нужде и лишениях необходимо следовать нравственным ориентирам (желание вдовы оказать гостеприимство – обязательство, о котором мы будем говорить еще не раз); и, в-третьих, на том, что изобилие и достаток безусловно зависят от верной нравственной ориентации, соблюдаемой всеми, независимо от их статуса.
Все это происходит в царстве, которое находится на грани гибели из-за непомерного, неуместного, манипулятивного влияния царицы Иезавели на ее слабовольного мужа-маловера. Отчасти она олицетворяет опасное притяжение чужих традиций и идеалов, способных проникнуть в общество и пронизать его, укрывшись под маской креативных, передовых и новых идей. И прежде чем услышать возражение: «Библию писали предвзятые ксенофобы, и им нет оправдания!» – справедливо будет обратить внимание на таких ветхозаветных персонажей, как Иофор, тесть Моисея, играющий очень важную роль в книге Исход (в частности, см.: Исх 18:17–23); Раав, отважная и стойкая в вере блудница из Иерихона (Нав 2) и Нееман (4 Цар 5), принявший исцеление от рук Елисея благодаря смирению и вере. Все они были чужеземцами, однако несмотря на это, – или, скорее, даже именно поэтому, – ничто не застилает их взор, и их нравственные поступки нейтрализуют действие разврата, охватившего израильтян. Новое способно как отравить и стать паразитом, так и привести к возрождению, и мудрость – это не в последнюю очередь способность отличить вероятную помощь от возможной помехи.
Бедная, но добрая вдова неявно представлена как желанная противоположность надменной и опасной царице. Почему? Почти во всей истории человечества вдовство было ужасным, особенно если вдовам приходилось заботиться о детях, и в Библии образ вдовы часто призван выразить уязвимость, беспомощность, нищету и жизнь на периферии общества. Кроме того, в ее горестном бытии усматривается повсеместная форма мировой несправедливости. Именно по этой причине, а также ради нравственного наставления избранного народа дух Божий призывает израильтян исправить неравноправие: отказаться от жадности, преодолеть соблазны, влекущие лишь к ублажению корысти и эгоизма, и оставить хоть что-нибудь для обездоленных.
Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и попа́давших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш.
Лев 19:9–10Этот принцип проработан во Второзаконии, где ему придается дополнительный смысл: в жизни каждого непременно настанет момент, когда он окажется зависимым от других, – и если в обществе преобладает верный дух, тогда оно устроено так, что все относятся к этой неизбежной зависимости с должным вниманием. На каком бы этапе развития ни находилось общество, оно бессмысленно, если не может позаботиться о своих людях, – как о беззащитных и уязвимых, так и о талантливых, деятельных и богатых.
Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою: пусть остается пришельцу, сироте и вдове; и помни, что ты был рабом в земле Египетской: посему я и повелеваю тебе делать сие.
Втор 24:21–22Поступок вдовы, даже в нищете проявляющей щедрость – это идеальный пример самоотверженности и поддержки, обязывающих ко взаимности; так ведут себя те, кто по праву заслуживает доверия и достоин называться взрослым, и именно так поступают жители мирной страны, занятые плодотворным трудом. Совершенно в ином свете, усиливая разительный контраст, предстает перед нами царица, пребывающая под защитой привилегий: она поглощена только собой и своими желаниями – и тем самым ставит под угрозу и само общество, и его духовную жизнь.
История Илии на этом не заканчивается. Постепенно все более четкую форму обретает идея того, что психологическая и социальная иерархия ценностей должна формироваться под властью подходящего правителя – или же правильного принципа, если выразить это более абстрактно. Пророк покидает Сарепту и вступает в решающую схватку на горе Кармил. Он убеждает Авдия, начальника дворца Ахава, собрать израильтян у подножия горы и подготовить два жертвенника: один, у которого соберутся служители чужеземного бога, – для Ваала; другой, у которого останется только Илия, – для Яхве. Условие победы таково: истинным считается тот бог, который отзовется на призыв, воспламенит огонь на алтаре и примет жертву. Пророки чужеземного бога молятся много часов, но напрасно. Илия трижды льет на алтарь воду (лишь чтобы яснее донести свое послание), просит вмешательства Яхве – и огонь, немедленно ниспавший с неба, сжигает и жертву, и сам алтарь. Отныне превосходство Яхве несомненно, Вааловы пророки казнены – и «слышен шум дождя» (3 Цар 18:41). Без настоящего нравственного порядка изобилие немыслимо – однако если внять наставлениям должного животворящего духа, то со временем лишения и нужда могут прекратиться и превратиться лишь в далекие воспоминания.
Разгневанной Иезавели это не по нраву, и она решает расправиться с Илией. Несчастный пророк бежит в безлюдную пустыню, находит убежище в пещере, – и там с ним беседует Бог (3 Цар 19). Принятие откровения в уединенном месте – распространенный мотив. В одиночестве, где почти нет вербального общения, в темноте и тишине, когда почти не задействуются внешние чувства, легче услышать внутренний голос и пережить видения, отчего вероятность откровения возрастает, чем бы это ни обернулось, – добром или злом. Возможно, на более глубинном уровне это происходит потому, что неврологические системы правого полушария, которые (по крайней мере у правшей) более тесно ассоциируются со сферой бессознательного, а также с имплицитными процессами, связанными с мышлением и осуществлением действий, могут захватывать контроль над вербальными и образными впечатлениями, в случае, если последние не заглушаются или не подавляются каким-либо иным образом в условиях социального взаимодействия и сенсорного входа, приближенных к нормальным.
При мысли о том, что его попытки хранить верность Богу не привели ни к чему, кроме несчастья, Илия впадает в отчаяние. «Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее» (3 Цар 19:10). Бог отвечает ему: «Выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня тихий, кроткий голос» (3 Цар 19:11–12; перевод сделан согласно «Новой исправленной стандартной версии» [NRSV]). В Библии много известных выражений, и, несомненно, «тихий, кроткий голос» входит в их число. В этот момент Илия – и через него весь человеческий род – осознает, что Бог не в ветре, как бы тот ни был яростен; не в землетрясении, независимо от его силы; но в чем-то, скрытом внутри, в голосе самой совести, в сокровенном ориентире, указывающем нам на то, что правильно, а что неверно; в независимом духе, свойственном каждой душе и рождающем в ней порыв покаяться, попросить о прощении и искупить свои грехи.
Только вслушайтесь: мы можем выстроить отношения с Богом, внимая собственной совести! Важность этого открытия беспримерна. Бог наделяет мужчину и женщину свободной волей даже несмотря на то, что Ему угодна верность сотворенных созданий и Он хочет нас направлять. Как Ему примирить эти соперничающие влечения? Повелеть? Принудить? Испугать? Нет – но подарить нам голос, или образ, или даже чувство, способное подтолкнуть, навести на мысль, пристыдить или спокойно и мягко смирить (пусть даже при необходимости его интенсивность возрастает). Это отождествление совести с Богом делается все более эксплицитным по крайней мере в ряде направлений христианской мысли. Например, именно на этом настаивал кардинал Ньюмен, британский теолог XIX столетия, в большей части своих сочинений.
Божественный закон – это власть этической истины, критерий правильного и неправильного, величайшая, нерушимая, абсолютная власть в присутствии людей и ангелов. «Вечный закон, – говорит святой Августин, – это божественный разум или воля Бога, повелевающая соблюдение и запрещающая нарушение естественного хода вещей». Ему вторит святой Фома Аквинский: «Свет естественного разума… суть не что иное, как отпечатленный в нас божественный свет. Отсюда очевидно, что естественный закон суть не что иное, как сопричастность разумной твари вечному закону». Этот закон, постигаемый разумами отдельных людей, называется «совестью», и хотя при прохождении сквозь интеллектуальную среду каждого отдельного человека он может исказиться, подобное влияние не принуждает его утратить характер божественного закона, и он, в сущности, по-прежнему имеет прерогативу предписывать повиновение.
Это утверждение вполне возможно счесть более веским и правомерным, чем намного чаще звучащий в наши дни «аргумент от дизайна», который гласит, что сложность природы в силу необходимости указывает на активно действующего создателя. В Третьей и Четвертой книгах Царств заложена богооткровенная основа для гораздо более психологического и реляционного определения Верховного божества, которая отделяет Бога от языческого театра естественного мира (хотя природа действительно способна внушать благоговейный трепет) и помещает Его, чудесным и страшным образом, в глубину наших душ. Именно понимание, к которому приходит Илия, готовит сцену для истории Ионы – таинственного рассказа о пророке, сперва отвергшем зов голоса совести, а после покорившемся ему; о его деяниях мы поговорим в конце книги. Вклад Илии настолько фундаментален и совершает настолько радикальный переворот, что это обозначается его чудесным вознесением на небо во плоти. Это событие, ставшее прообразом воскресения Христа (и, в каком-то плане, Ионы), свидетельствует о несравненном триумфе Илии в пророческом служении. Мы просто не поймем ни библейских книг, ни того, как они определяют Бога, если не признаем, что никто из пророков не в силах сравниться с Илией и что его преображающее и революционное понимание имеет для нас огромную важность. Узнав его историю, мы постигаем природу бытия – нашу и божественную – по-иному, более ясно, более прямо, более лично. Мы прозреваем – и можем слышать по-новому.
С чем связано наше решение сделать историю основой даже для самого акта восприятия? Или, если спросить иначе, – для преображения этого акта? Затем, что мир нужно «профильтровать», пропустив его через механизм повествования, чтобы он стал постижим или хотя бы понятен; затем, что мир, в прямом смысле слова, слишком сложен для того, чтобы действовать и ориентироваться в нем, не имея ни цели, ни характера (определяющих признаков связной истории как таковой). Перед нашим вниманием непрерывно предстает неисчислимое обилие фактов – наверное, на каждый феномен, и более того, на все их возможные сочетания приходится какой-нибудь факт; проще говоря, их слишком много. С исходами та же проблема: эффекты, производимые каждым действием и каждой возможной причиной, ветвятся экспоненциально – их слишком много, чтобы их можно было рассмотреть, обдумать и учесть. Решить эту задачу нелегко. Философ Дэниел Деннет, как известно, назвал ее «новой, серьезной эпистемологической проблемой». Существует почти бесконечное множество способов распределить по категориям – и, следовательно, воспринять и постичь – конечное число объектов. Уделить внимание всему, что происходит вокруг, и делать это постоянно, с одинаковым рвением, мы просто не можем – и при каждом взгляде отдаем предпочтение тем или иным фактам, а поэтому многим пренебрегаем, стремясь к своей цели. Так мы обретаем необходимое и желанное – но что именно? Возможно, мы безрассудно исполняем мимолетный каприз, если мы инфантильны, несерьезны и настроены на немедленное удовлетворение наших желаний. Возможно, мы хотим обрести власть, которая позволит их исполнить, с кем бы нам ни пришлось соперничать или даже сражаться, «торя свой путь». А может быть, все иначе, и мы, принимая зрелые решения, хотим создать брачные, семейные, дружеские, профессиональные и государственные узы, придающие нашей жизни истинный смысл, – и стремимся гармонично и плодотворно объединить настоящее и будущее в независимой личности, как взрослые и ответственные люди, способные и к помощи друг другу, и к взаимному соперничеству.