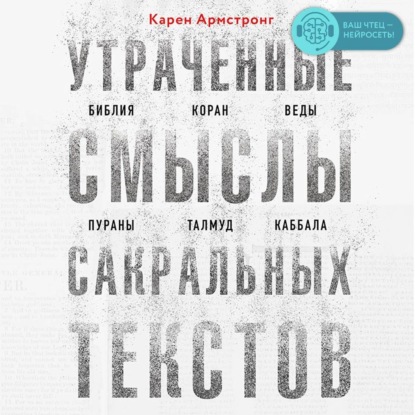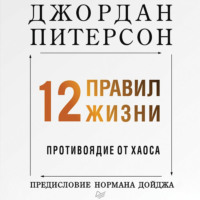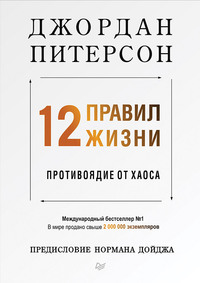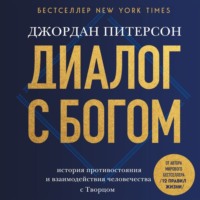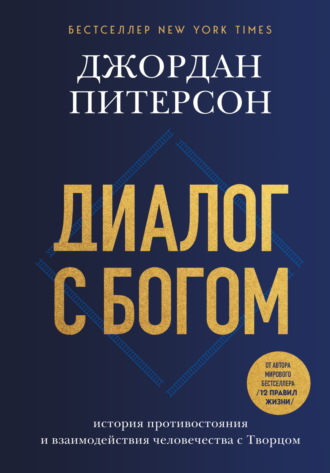
Полная версия
Диалог с Богом. История противостояния и взаимодействия человечества с Творцом
Факты, с которыми приходится иметь дело, мы рассматриваем в соответствии с нашими ценностями. Избранные пути, определенные явления, те или иные люди оказываются для нас превыше прочих, и все, что мы считаем менее важным, мы отправляем или в глубины ада – как помеху, препятствие или врага, – или в невидимое царство «бесполезности». Так мы упорядочиваем, упрощаем и сокращаем мир еще до того, как с ним соприкоснемся. Это определение приоритетов – не просто пассивный процесс. Это активный отказ, это дар, это жертва. Мы – не просто покорные получатели очевидных истин. Акт восприятия не ограничен ощущением – наравне с этим он представляет собой усилие, требующее двинуть глазами, ощупать, прислушаться. Все наши впечатления сводятся не к рефлекторной чувствительности, но к мотивации и действию, и ощущение никогда не возникает прежде, чем мы начнем действовать. Что бы ни занимало наше внимание – все, что осознано нами, на сколь угодно краткий миг, – на мгновение возводится на высочайший пьедестал, прославляется и почитается, независимо от того, известно ли об этом нам самим. Мы должны точно определить, что для нас важнее всего в настоящее время, и не отвлекаться ни на что иное. Эти элементы непродолжительного, даже прицельного внимания, в свою очередь организованы в какой-то мере связно (в зависимости от того, насколько мы цельны) в пирамидальную ценностную структуру. Более того, либо на ее вершине находится что-то одно – наша окончательная цель – либо это дом, разделившийся сам в себе, который не устоит (Мк 3:25). Мы видим мир сквозь иерархию ценностей. Это карта, без которой мы бы просто заблудились на неведомой земле. Итак, мы воспринимаем и постигаем в соответствии с тем, к чему мы стремимся. Это поразительное понимание, о котором очень мало говорят и которое подразумевает, что именно от наших ценностей зависят и наши несчастья, и наша радость.
По большей части наше общение – это описание цели. Мы сообщаем другим о том, что делаем, и в предвкушении ждем, что они расскажут нам о том же. Даже болтая ни о чем, мы желаем знать, чем занимаются другие. Чего они хотят? Чему уделяют внимание? Если беседа о подобных вещах становится более глубокой, то мы говорим не о ближайшей цели, а о характере, поскольку характер – это всего лишь привычное воплощение целей. Постичь его – значит познать себя или других. Как мы обретаем и репрезентируем такие знания? Мы отыгрываем, подражаем, исполняем роли – драматизируем – чтобы представить и усвоить модели внимания и действия, характерные для нас и для других. Если выразить эту мысль более отвлеченно, то мы рассказываем историю. Когда мы говорим о целях отдельных людей или народа, о пути их развития, о преградах, возникающих на нем, и о возможностях, которые он предоставляет, об их друзьях и недругах или о союзниках и врагах – о формирующемся нравственном ландшафте, – мы рассказываем историю. Так мы определяем приоритеты, упорядочиваем и постигаем мир. Так мы описываем цель, видя мир лишь по отношению к ней. Что представляет собой история, подробно повествующая о цели и обо всех ее последствиях? Описание структуры, которая становится нашим «окном в мир». В различных характеристиках, образах, словесных портретах перед нами возникают ценностные структуры, в рамках которых проявляется воспринимаемый мир. Почему это имеет значение? Что они обозначают? Почему это важно – даже жизненно важно? Видеть мир, непостижимо сложный, и действовать в нем – это задача, внушающая ужас. Поэтому мы ценим описания того, как следует воспринимать все, что мы видим и слышим, и как себя вести – и, возможно, ценим их превыше всего.
В детстве мы разыгрываем истории, забывая обо всем на свете. Даже повзрослев, мы увлекаемся историями, предстающими на сцене, на экране, в художественных произведениях, поскольку нет никаких иных знаний, которые были бы для нас нужнее, чем знания о том, как создавать, проверять и улучшать иерархию ценностей – структурную основу, предназначенную для осмысления фактов, важных для нас. Так мы со временем начинаем, в экзистенциальном смысле, выстраивать мир, в котором живем, и создаем свою реальность. Так мы движемся вперед – и даже решаем, какой смысл вкладывать в эти слова. Мы видим, как герой стремится к высшей цели, утверждает истину ценой своей жизни, жертвует во имя лучшего, благородно противостоит «пращам и стрелам яростной судьбы» – и все же сохраняет свою цельность. Мы следим за тем, как перед ним раскрывается мир и как объекты, важные в его странствии, становятся помощниками или преградами на его пути. Нам интересно, как друзья, которых он находит в странствии, приносят жертвы, чтобы его поддержать, и это доставляет нам радость. Мы видим, как его враги обманывают, крадут, предают, лгут, терпят крах, и чувствуем, что правосудие свершилось – или становимся свидетелями их торжества и возмущаемся, решив, что нас обманули. В двух словах, мы очарованы обладателями возвышенных стремлений – и если мы отважны, то желаем, чтобы нами овладел их дух.
Мы стремимся – или надеемся – увидеть то, что видят они, испытать их чувства, выучить их уроки, укрывшись в безопасном мире фантазии. В этом и состоит ценность вымысла: он позволяет нам экспериментировать с ценностями, ничем не рискуя, а игра, формирующая наше восприятие, проходит наиболее безопасно и эффективно.
Мы ставим самое ценное – желанную цель, искомое благо, – на вершину, на высшее место, на самый высокий пьедестал. Пусть даже только на мгновение, но мы настраиваемся на цель, которую считаем главной. Мы думаем лишь о том, что полагаем достойным внимания и усилий. Мы постулируем благо – которое, по крайней мере, лучше исходного. Это акт веры, поскольку благо может быть где-то еще; и в то же время это жертва, поскольку в погоне за определенным благом мы отказываемся от всех остальных. Каждый акт восприятия сверяется с этой изначальной, определяющей верой. При этом шагом к цели – земле обетованной – становится даже само решение, устанавливающее рамки интерпретации, поскольку такое восприятие зависит от действия – неотъемлемой части наших странствий. Цель очерчивает вокруг нас моральный ландшафт, где конечный пункт представляется наивысшим воображаемым благом, – по крайней мере там и тогда, где это, в силу намерения, кажется нам уместным. Цель наделяет мир смыслом, определяет приоритеты и даже способ ее восприятия. Она открывает путь и указывает наиболее вероятный маршрут, способный привести нас туда, куда мы решили отправиться. Именно в виде цели, в ее зримом воплощении, в форме погони за ней, ставшей смыслом наших действий, перед нами предстает и характер.
Это ставит перед нами очень важные вопросы. Если мы видим и должны видеть мир сквозь призму истории, если он сам открывает себя в ее форме – тогда что это за история? Как верно выразить наши цели, наши самые сокровенные искушения, наши достойнейшие стремления к высшему? Что здесь имеет значение и что можно и стоит игнорировать? Чему нам посвятить свое ценнейшее внимание? Каких целей нам достигать? Какую неудобную правду извечно пытается раскрыть наша совесть? Как выглядит иерархия ценностей, в рамках которой раскрывается самый плодотворный, самый изобильный, самый устойчивый мир? Иными словами, в чем суть настоящей истории нашей жизни, – что она собой представляет и какой ей следует быть? Это рассказ о наших самых благородных порывах, о наших самых главных отношениях, и в то же время – о наших истинных основах. Поэтому она, как и должно быть, оказывается описанием божественного, или Бога – о чем настоятельно повторяет Библия. Но в чем же ее смысл?
Совесть, важная сама по себе – та самая совесть, голос которой слышит Илия, – это не единственное проявление Бога, не единственная его драматическая «персона». Мы еще увидим, что в других своих обликах Он предстает как зов – как вдохновение, как дух авантюризма, как любопытство и энтузиазм, даже как искушение, – и это далеко не все. К примеру, сильнее всего мы мечтаем встретиться с героем, а по возможности и стать им (очередной облик) – причем не просто героем, но самым «героическим» героем. Мы хотим принять облик не просто властителя царства – но владыки владык. Мы по природе своей восхищаемся божественным принципом верховной власти. Мы хотим познать ее; хотим испытать, какой дух правит человеком, по праву поставленным превыше всех; хотим увидеть мир его глазами, – чтобы, как герой и властелин, решать проблемы, осаждающие нас со всех сторон и дающие нам возможности для роста. Мы, насколько это возможно, хотим понять природу Блага, которое превыше всех непосредственных благ, – Блага, способного даровать нам захватывающую жизнь, в которой еще больше изобилия, чем в саду вечных наслаждений. Точно так же мы хотим понять Злодея, стоящего за всеми злодеяниями, – суть духа, желающего порождать страдание, присутствующее в мире, лишь для того, чтобы оно продолжало существовать. Мы хотим понять Добро, чтобы стать добрыми, и понять Зло, чтобы уберечь себя от превращения в злодеев. Так мы можем спасти и искупить мир – и в малом, и в великом. Так мы можем сдержать ад, порождаемый злом, и не только ради себя, но и ради всех, кого мы любим и о ком заботимся, во имя стабильности и дальнейшей жизни обществ, в которых мы живем, и из любви к самому миру.
Хорошо ли, плохо ли, но история – это сущность. А история, на которой, пусть и несколько шатко, основаны менталитет и общество Запада – насколько бы хрупкими эти основы ни стали сейчас – это Библия: компиляция драм, ставшая линзой, сквозь которую мы смотрим на мир и на которой утверждает себя западная культура. Библия повествует не только о Боге, подражание и поклонение которому, или, более того, воплощение которого считается высочайшей из всех представимых целей, – но также о мужчине и женщине, чьи характеры, как полагают, связаны с Богом по самой сути своей, и о том, как социум должен относиться к личному и к божественному. Она становится и откровением о жертве, делающей это стремление возможным, и драмой, позволяющей увидеть и постичь трансцендентную цель, которая удерживает все наилучшим образом. Библейская история как целое – это структура, раскрывающая факты объективной действительности в той мере, в какой это касается Запада; это описание ценностной иерархии, в рамках которой становится возможной даже наука, – если она в конечном итоге стремится к благу и добру. Библия – это свод историй, на котором утверждены самые плодотворные, самые свободные и самые стабильные и спокойные общества, когда-либо существовавшие в мире; попросту говоря, это фундамент Запада.
Ландшафт вымысла – это мир добра и зла: мир ценностей, где вершина постоянно отдаляется в землю обетованную, а вечная бездна страдания, неизмеримого и бесконечного, занимает низшее из всех возможных мест. Библейские истории указывают нам вечный путь – вверх по склону святой горы, к небесному граду – и в то же время предупреждают об апокалиптических опасностях, скрытых в аномальном, маргинальном, чудовищном, грешном, порочном, змееподобном и откровенно дьявольском. Бог в такой формулировке – это дух, ведущий вперед, а человек – тот, кто борется с этим духом: во-первых, в каждом своем решении, поскольку выбор – это вопрос приоритетов; во-вторых, в каждом взгляде, поскольку каждый взгляд – это принесение возможности в жертву во имя желанного исхода; и, наконец, в каждом действии, предпринимаемом по мере приближения к определенной цели и удаления от всех остальных. Иными словами, в любой момент, который мы осознаем, мы обречены вести борьбу с Богом.
В начале
Бог как творческий дух
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
Быт 1:1–2В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была
Как представлен Бог в начале великой книги Бытия? Как энергичный дух – творческий, подвижный, активный, – нечто, что действует и существует. Бог – это герой, и Его личность раскрывается по мере развития библейского повествования.
Книга Бытия начинается с конфронтации. Бог «носится», или быстро движется, над «водою». На что призваны указать слова о движении? Просто на то, что Бог к нему способен? Да, однако есть и другой, не столь очевидный момент. Когда мы говорим, что нами движет нечто? Когда мы глубоко поражены. Бог встречает нас, когда появляются и обретают облик новые возможности. Мы встречаем Бога, когда что-то поражает нас до глубины души и призывает к действиям. А о какой «воде» идет речь – особенно если это вода, еще не сотворенная Богом? В древнееврейских текстах она обозначена словом tehom и выражением tohu wa-bohu: это хаос, потенциал, то, что скрыто и пока еще не явлено, – словно вода, которая таит неведомое в своих безднах и без которой не появится жизнь. Бог – это дух, который смело противостоит хаосу, пустоте и глубине, добровольно придает облик тому, что еще не осуществилось, и торит свой путь по вечно изменчивому горизонту грядущего. Бог – это дух, рождающий противоположности (свет/тьма; земля/вода), а наравне с ними – возможности, которые возникают из разделившегося пространства:
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
Быт 1:6–10И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;
И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.
Быт 1:14–15Как описать словами эту первую встречу с Богом? Что Он собой представляет? Чему Он противостоит? Представьте то мгновение утра, когда вы только пробудились ото сна. На что направлено ваше внимание? На предметы вокруг? На обыденную обстановку спальни? Нет – вы размышляете о том, какие проблемы поставит перед вами предстоящий день и какие возможности он вам дает. Возможно, вы тревожитесь, поскольку проблем слишком много. Возможно (надеюсь), вы в лучшем положении и оцениваете новые перспективы. Ваше сознание – ваше бытие – парит над потенциалом, который принесло вам новое утро. Это подобно творению мира, изображенному в первых библейских стихах, – творению, которое продолжается с каждым вашим взглядом, с каждым произнесенным словом. Благодаря сознанию мы «считываем данные» из области возможного бытия – из области становления. Оно внушает и надежду на благо, которое ждет впереди, и тревогу при мыслях об ужасной неопределенности жизни.
Есть и другой способ осмыслить нашу конфронтацию с обилием возможностей. Представьте любой объект – и вообразите, что вокруг него есть пространство, состоящее из того, чем он мог бы стать со временем и с учетом смены обстановки. В стандартных условиях можно предсказать наиболее вероятное будущее любого знакомого объекта, будь то бутылка, ручка или солнце, исходя из его текущего состояния. Впрочем, превратность судьбы или радикальная смена цели может снять подобные ограничения и проявить его нераскрытый потенциал. В баре, где затевается драка, бутылка может превратиться в смертоносную дубинку или, если разбить ее в гневе, – в копье с лезвиями бритвенной остроты. Ручка, введенная в трахею, когда человек задыхается, может стать животворящим механизмом. Солнце – предсказуемый податель света и тепла, определяющий наши дни и ночи, – может обернуться источником солнечных бурь, губительных для электросетевой инфраструктуры, от которой в высшей степени зависит наше хрупкое существование.
Так выглядит обширный спектр возможностей, в противостояние с которым вступает сознание, когда постигает мир и решает активно в нем проявиться. Поэтому наше движение вперед во времени – это не механическое шествие по миру стабильной действительности. Сознание взаимодействует с тем, что еще не осуществилось, но что может появиться на свет. Именно так дух Божий вступает в соприкосновение с пустотой и бесформенной бездной; так божественное борется с massa confusa – темным хаосом, потенциальной возможностью, матрицей, из которой является все великое множество форм.
Бог – это в равной степени и то, что (или кто) создает не только порядок, но благой порядок, о чем не раз говорится в первой книге Библии. В первый день Он отделяет свет от тьмы (Быт 1:3–4); во второй создает небесный купол, разделяя нижние воды, земные – и верхние, источник дождя (Быт 1:6–8). На третий день terra firma, на которой живем мы, собирается воедино и отделяется от будущих океанов, а на земле начинают произрастать растения (Быт 1:9–13). На четвертый день…
…создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.
Быт 1:16–18На пятый день появляются рыбы и птицы (Быт 1:20–23). Все это творение, уже изначально хорошее, стремится к высшему, развиваясь дальше, как указано в шестой и последний день, когда Бог призывает мир к жизни. Возникают животные (Быт 1:24–25) и, наконец, мужчина и женщина.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
Быт 1:26–28Создается впечатление, что Бог, завершая Сотворение мира, превзошел сам себя и все свои предыдущие творения. Вердикт Его звучит так: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт 1:31). Какие выводы мы можем из этого сделать? Во-первых, Бог не только противостоит хаосу и возможности и придает им облик – но делает это с благожелательным намерением и стремится к благому исходу. Бог представлен как процесс или дух, желающий процветания всему миру; одним словом, это дух, ведомый любовью. Во-вторых, последовательность сотворения подразумевает не только то, что жизнь должна проявиться и будет проявляться все более изобильно, но и то, что это будет происходить по непрестанно восходящей спирали – от «хорошо» к «хорошо весьма» – что может послужить определением самих небес. Это лестница Иакова, процесс, благодаря которому всему неизменно придается должный образ – и в то же время все постепенно становится лучше, по мере того как обнаруживаются все новые пути, ведущие к высшей истине, красоте и добру.
Кульминация Сотворения мира – создание мужчины и женщины. Именно оно считается «хорошим весьма». Поэтому два первых человеческих существа – а также мужчины и женщины в целом – это воплощения самого Бога; при этом Он выступает как творящий дух, призывающий порядок в бытие из хаоса и обилия возможностей, а мужчина и женщина – как Его микрокосм. Они, в сущности, подобны Ему или даже идентичны, и на них лежит ответственность за вечное повторение творческого процесса. Непросто представить род человеческий в еще более оптимистическом свете, и невозможно переоценить то, насколько важным оказывается настойчивое требование Бога. В описании творчества – в изображении действия Слова, ориентированного на добро, – установлены основные принципы, к соблюдению которых без промедления призываются и мужчина, и женщина. Ценность, приписанная нам библейским повествованием, ставит нас на вершину творения; в хорошем мироздании она еще выше – хороша весьма – и она заменяет собой все земные оценки (если принять как данность, что в нас отражен божественный образ). Необходимо понять: это вопрос определения. Столп, ставший мировой осью, утвержден на божественной ценности человечества, и она должна оставаться непоколебимой, нерушимой, неприкосновенной – иными словами, священной. Это не что иное, как выражение морального порядка, присущего самому мирозданию и отражающего природу Бога, мужчины и женщины, и это основа, на которой покоится идея естественного права и суверенной ответственности.
Верим ли мы этой истории? Верим ли мы в то, что она утверждает и подразумевает? Во-первых, поставим вопрос так: что значит верить? Определенно, мы, и как личности, и в коллективе, ведем себя так, как будто эта история истинна, – по крайней мере, когда соблюдаем правила и совершаем поступки, действительно направленные на наше высшее благо и на благо всех остальных. К любимым людям (и даже к ненавистным) мы относимся как к бесконечно ценным локусам творческого сознания, способным находить свой путь и создавать мир в зависимости от того, что им открылось. Именно факт этой высочайшей идентичности и высшего бытия неизменно препятствует любой организации, любому обществу, любому государству, которые в своем безумном стремлении к власти осмеливаются угрожать суверенности индивида. И мудрым, и невеждам следовало бы благодарить за это Господа.
Мы чувствуем себя глубоко оскорбленными, когда нам не воздают обращения, подобающего детям Божьим, – иными словами, если нам не показывают, что мы по-настоящему ценны. И точно так же, если мы вдруг осознаем, что считаем других ниже нас; если мы мысленно обесцениваем их; если принижаем их и не видим, что они наделены сознанием и высшим, божественным достоинством, а от их опыта и впечатлений неким таинственным образом зависит сама реальность, – то и подобные мысли, и чувства, рожденные ими, нам неприятны. Даже если мы, жители современного мира – все более атеистического, материалистического, признающего лишь факты, – рассказываем себе другую историю, которая противоречит этой вере и пронизана сомнением в ее истинности, мы все-таки по-прежнему верим в нее, в той мере, в какой показываем, что мы оскорблены подобным отношением и что оно нарушает наше сокровенное право, причем вне зависимости от того, наносим ли обиду мы сами или ее наносят нам. Ни один мужчина, открыто заявляющий о неверии в свободную волю или даже в сознание, не осмеливается вести себя с женой так, как будто она не обладает свободной волей или сознанием, поскольку иначе на волю вырвутся все демоны ада. Но почему? Дело в том, что предположение о внутренней ценности отражает очень глубокую реальность – вполне «реальную» – и мы, отрицая его, подвергаем себя опасности. И если оно абсолютно необходимо, разве может оно оказаться неправдой? Если допущение, которое придает любым нашим взаимодействиям упорядоченную структуру – это принятие или драматизация исключительной ценности каждого человека (и в том числе нас самих), тогда можем ли мы не «верить», что эта ценность реальна? Можно спросить и более серьезно: «В какой момент мы должны признать, что “необходимый вымысел” истинен настолько, насколько необходим? Разве то, от чего в высшей степени зависит наше выживание, не составляет саму суть “истины”?» Любая другая форма истины противоречит жизни и не служит ей, а если так, то назвать ее истиной, в конечном счете, можно лишь в силу неэффективных стандартов – и, следовательно, она не «истинна» по существу.
История книги Бытия едва началась, и мы только успели познакомиться с Богом. Тем не менее уже в этих первых строках, неисчерпаемо глубоких, перед нами предстала сущностная природа космического порядка: мы узнали о существовании процесса, преображающего хаос и обилие возможностей в обитаемый упорядоченный мир, благой и устремленный к тому, чтобы стать еще лучше; мы увидели, как роль творца провозглашается фундаментальной и высшей по отношению к самому творению; нам настоятельно повторяют, что от творческого процесса зависит сама реальность; что люди участвуют в нем; что им следует это делать и что право на это участие наделяет каждого человека божественной ценностью и налагает на него великую ответственность. С самого начала творения о мужчине, а также – о чудо! – и о женщине говорится как о образе Божьем. Какая бы суть ни была характерной для каждого из нас, и каким бы ни был сам дух, делающий мужчину и женщину человечными и ценными, он в прямом родстве с силой, преображающей пустоту в Небесный Сад. Все самые целесообразные и желанные места и состояния, от микрокосма счастливого брака до единой нации, и неявно, и открыто утверждаются на предпосылках, очень похожих на только что озвученные. И более того, отсутствие этого убеждения, или, лучше сказать, этой веры, слишком часто – в подтверждение главной идеи – превращает и отношения, в которые вступают люди, и сообщества, созданные ими, в истинный ад на земле.
Верим ли мы? Если мы колеблемся – и если наша вера слаба – то катастрофа не за горами.