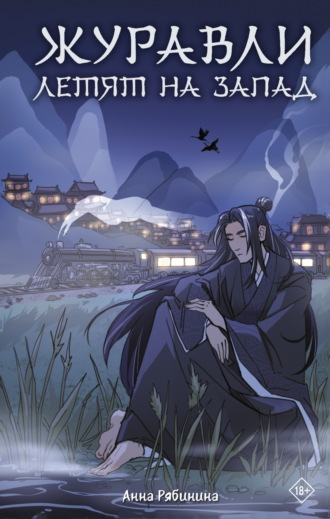
Полная версия
Журавли летят на запад
– Молчу, – покорно соглашается он, и Моргана громко фыркает. Сзади их пихает какая-то бабка, недовольная шумом.
– Разорались!
Моргана начинает смеяться, что вызывает новый поток ругани.
– Так что там с моим чувством вины? – осторожно напоминает Сунь Ань.
– А это еще кто? – злобно откликаются из-за спины. – Этот уродец что тут делает?
Моргана хмурится, а потом берет его за руку и ведет в конец очереди.
– Постоим подольше, поговорим как раз.
– Да это… Все равно, наверное, – он пожимает плечами. – Я под десять лет все это слышу.
– И как реагируешь?
– Да никак.
– А Чжоу Хань?
– А он тут при чем? – Моргана выразительно на него смотрит. – Ругаться начинает. В воздух, правда, а не на тех, кто это говорит.
– Вот и я об этом! Ты почему-то слишком спокойно все это принимаешь, а Чжоу Хань пытается… Не знаю, если честно, что у него там в башке, но он явно просто так принимать не хочет.
– А ты?
Моргана закатывает глаза.
– А я женщина, мое мнение учитывается только в вопросе, хочу я родить десять детей или быть мертвой.
Несколько минут она молчит – в ее глазах сверкает что-то опасное, злое, гордое, и Сунь Ань думает странную, не совсем логичную мысль, что Моргана была рождена, чтобы жить именно в этом городе, так сильно они друг на друга похожи: оба гордые, наглые, смелые, шумные, яркие. Он был влюблен в Париж, это была странная, душащая, немного пугающая, но прекрасная любовь, и, наверное, он мог бы влюбиться в Моргану, но, хотелось надеяться, этого никогда не произойдет, потому что та за подобное скинет его в Сену.
– Я хочу обратно в Англию, – в итоге говорит она. – Но пока я туда не поеду.
– Почему?
– Потому что зачем-то же я приехала сюда, значит, я должна увидеть в этой дурацкой стране все что можно, чтобы потом использовать это дома.
– Использовать?
Моргана широко улыбается.
– Я хочу избирательные права для женщин.
– И ты думаешь…
– Я уверена, что у нас получится, нужно просто больше времени, – в ее голосе звучит что-то жестокое. – Понимаешь, это в Англии была одна революция и та еле-еле живая, а во Франции столько восстаний! Ты знаешь, как сильно были важны женские организации в годы революции? А про Декларацию прав женщины и гражданки слышал?
– Слышал, – кивает Сунь Ань. Про нее ему, как ни странно, рассказывал Чжоу Хань.
– «Если женщина имеет право подниматься на эшафот; она должна также иметь право всходить на трибуну»[14], – цитирует Моргана. – Красиво же, правда? Ужасно по-французски, но красиво.
Да, именно об этом Чжоу Хань говорил с ужасом – о том, насколько это безрассудно.
– И ты бы не боялась умереть?
Моргана пожимает плечами.
– Ну откуда же я знаю? Я боялась умереть, когда у меня случился выкидыш, остальное, думаю, переживу.
Она кутается в свою шаль, и из-за этого кудри собираются вокруг ее головы, как шляпка гриба.
– Ты так не похожа на мою маму, – зачем-то говорит Сунь Ань.
– А ты ее помнишь?
– Не очень хорошо, – признается он.
После этого они оба замолкают и молчат до самого конца очереди. В какой-то момент очередь заходит в лужу, и почти десять минут Сунь Ань чувствует, как в его ботинки затекает вода. Он бы отошел, но переулок сужается, будто архитекторы заметили, что какой-то дом не влезает до конца, и решили прямо в процессе его сдвинуть, поэтому приходится стоять и мучиться. Моргана держит обеими руками платье и ворчит. Начинает накрапывать дождик – холодный, мелкий, самый противный вид дождя.
– Может быть, ты права, – тихо говорит он в итоге. – И я просто не хочу ехать обратно.
– А ты знаешь, почему не хочешь? – интересуется Моргана.
– Пока что нет.
Когда они выходят из переулка, дождь становится все сильнее. Моргана впихивает ему в руки хлеб, а сама поднимает над их головами свою шаль.
– Что бы ты без меня делал, – хмыкает она.
– Много и долго страдал, а потом получил бы нагоняй от Чжоу Ханя.
– Именно, – соглашается Моргана.
До дома они в итоге не доходят, потому что дождь становится совсем невыносимым и приходится спрятаться под крышей какого-то из домов. Из-за влаги кудри Морганы развеваются окончательно, и она становится похожей на мокрую собачку, Сунь Ань видел таких в дорогих ресторанах – маленькие, кудрявые, еще с какими-то бантиками на шерсти.
Пока Моргана выжимает свои волосы, он держит ее вещи и переступает с ноги на ногу, потому что холодное ощущение сырости уже доползает до щиколоток.
– Вообще, в Англии с этим еще хуже, – рассказывает Моргана. – Тут бывает тепло и солнечно, а там ты живешь в вечном тумане. Красиво, но невероятно неудобно. Меня так пару раз чуть не сбивали на дороге, ничего не видно было.
– А меня тут несколько раз чуть не сбивали, когда я еще не привык жить в городе, – делится Сунь Ань, отчего та фыркает.
– Но это, видимо, любовь к Парижу не отбило.
– Не отбило, – покорно соглашается он.
– Ну, вообще, это же не плохо, если тебе так нравится жить тут, – решает Моргана. – Главное, чтобы тебя Чжоу Хань от таких решений из дома не выселил.
– Мне кажется, он догадывается.
– Ну вообще логично, он же умный, в отличие от некоторых.
Он пихает ее локтем в бок, из-за чего Моргане приходится увернуться, и в этот момент ей с крыши выливается вода прямо на макушку.
– Да как ты!.. – громко кричит она, а потом они начинают смеяться, и Сунь Ань ее целует.
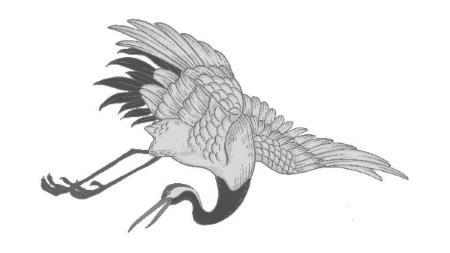
Глава 3
Кому достаются ритуальные деньги
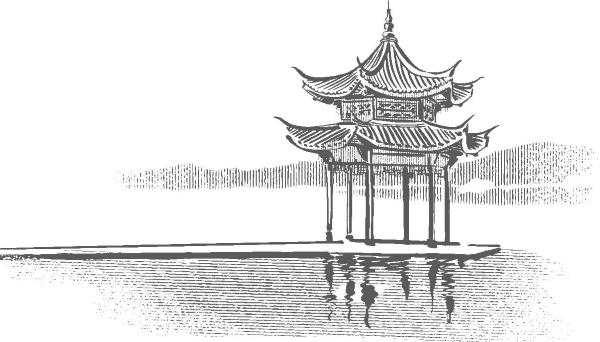
Ван Сун терпеть не могла мужчин в Китае. И в целом, любых, и тех, кто из года в год портил ей жизнь. Она не любила императоров, их чиновников, тех, кто против императора восставал. Императрица ей тоже нравилась не сильно, но на нее раздражения уже не хватало.
Она понимала, что у восстаний были причины, но они ее не сильно волновали – она много раз видела листовки, в которых обещали принять новые законы и заботу об обществе, гораздо чаще слышала болтовню пьяных мужчин у игорных домов, но она знала, что общество – это мужчины. Женщины обществом не были, они оставались красивыми куклами, которые в нарядных – впрочем, далеко не всегда – одеждах сидели дома, их можно было показать другим мужчинам, можно было рассказать им, как тяжело прошел день, но их ответ никогда не ожидался. Странно ждать, что кукла заговорит, верно?
Как если бы Небо правда могло решать, какие правители праведные, а какие нет – и разговаривало с людьми, даруя им свою волю.
В общем, чушь полнейшая.
И даже если в листовках было что-то про женщин, то обычно мелким шрифтом в конце. Или в середине, чтобы можно было выполнить остальные обещания, и в процентом соотношении было лучше, чем никак. А женщины? А что женщины – потерпят. Столько веков терпели, смогут и еще пару веков.
Впрочем, тайпины не нравились ей чуть меньше, чем остальные. А все дело в простом: они запретили проституцию и продажу в нее девочек. То есть, таких девочек, какой была сама Ван Сун, поэтому ей, конечно, несказанно повезло – ее подбросили на порог публичного дома, потому что все знали – рождение дочери к беде, не прокормишь, пока времена и так смутные, но она успела освободиться раньше, чем в ней что-то непоправимо сломалось.
Или, может быть, оно и сломалось, просто она не знала.
Когда восстание тайпинов пришло в Нанкин и ее освободили, она долго шаталась по улицам, пытаясь понять, а что теперь-то. Сначала жила у господина Эра, потом какое-то время – с госпожой Яо Юйлун, матерью Сунь Аня. Господин Эр рассказывал ей про западных царей, Яо Юйлун – про даосизм и Конфуция. А потом Ван Сун ушла – решив, что просто не может больше пользоваться ее добротой, хотя, конечно, уходить не хотелось: без господина Эра и детей Яо Юйлун будто расцвела, стала мягче, добрее, но все еще такой же чуткой и готовой бороться за свою семью – ведь именно благодаря ее презрению к восстанию и публичному отречению от мужа, восьмизнаменная армия[15] их не тронула, когда восстание подавили окончательно. Ван Сун все боялась, что Яо Юйлун казнят вслед за Сунь Чжаном, но ту не тронули – и Ван Сун, убедившись, что все точно будет хорошо, ушла.
Какое-то время она жила в городе и убиралась в каком-то постоялом дворе за возможность там ночевать. Там ее нашла женщина – точнее, девушка, сейчас сама Ван Сун ее старше, но тогда все высокие люди казались ей невероятно взрослыми.
– А ты чья? – спросила девушка, а Ван Сун, недоуменно похлопав глазами, сказала слова, за которые до сих пор сильно собой гордилась:
– Своя собственная.
Девушка рассмеялась – она была уставшей и замученной, но этот смех оживил ее лицо, и Ван Сун им залюбовалась.
– Хочешь быть своей собственной со мной? У меня нет дома, но я постелю тебе в своей комнате и дам одеяло.
– Хочу, – решила Ван Сун. В конце концов, даже если ты своя собственная, жить где-то надо.
Тот день был солнечным и сухим, она до сих пор прекрасно это помнила – солнце жгло макушку, очень хотелось пить, а еще почему-то – ругаться.
Сейчас она почему-то с трудом могла вспомнить имя этой девушки, и из-за этого ее брала досада – девушка столько лет о ней заботилась, а Ван Сун даже имя вспомнить не может. Оно кружилось на языке, царапая небо, но никак не подбиралось.
Эта девушка, впрочем, никогда не была хорошей воспитательницей, подругой, матерью – да кем угодно. Ван Сун воспринимала ее как сестру, временами – младшую. Та была рассеянной, часто что-то теряла, много болтала про восстания, мало – про то, что у них снова нет денег на еду, бегала по встречам с мужчинами, с которых возвращалась пьяная и пахнущая духами, которые им были явно не по карману.
Она лежала на лавке в их комнате и бормотала что-то про то, как сегодня было красиво в городе, куда ее водил очередной ухажер, пока Ван Сун сидела у входа на коленках и мыла ее ботинки, к которым приставала рыжая прибрежная грязь.
– Тебе так нравится с ними встречаться? – спрашивала Ван Сун, когда девушка, встрепанная после сна, сидела за столом и мешала в стакане воду с сахаром.
– Не знаю, – она растерянно пожимала плечами и простуженно шмыгала носом. – Они покупают мне вещи и еду, а потом целуют, иногда даже неплохо.
Интересно, думала Ван Сун, ей правда нравится? Или она просто пытается себя в этом убедить?
Когда Ван Сун выросла, она решила, что такое нравиться не может никому. Ее потом много раз звали на подобные свидания – она была красивой девочкой, а потом девушкой, ей обещали наряды, лучшие рестораны и самые дорогие букеты цветов, но никто из таких мужчин никогда не обещал безопасность. Черт с ней, с любовью – пусть бы хоть кто-то пообещал, что с ней все будет хорошо.
Один раз она все же согласилась, она была молодая и глупая – всего двадцать лет, мужчина, который позвал ее с собой – красивым и интеллигентным, тоже, кажется, молодым, впрочем, Ван Сун давно надоело рассматривать мужчин, ей было все равно, как они выглядели, раз никто из них не смог предложить ничего стоящего.
Тот поцеловал ее в первой же подворотне после пропахшей алкоголем лавки, когда во рту еще таял вкус сладкого с какими-то цитрусовыми нотками чая – единственного там нашедшегося, – схватил за плечи, повел руками по спине вниз, она замычала, но вырваться не смогла, и, кажется, ее сопротивление ему только понравилось.
Интересно, думала она, ту девушку тоже зажимали вот так? А она сопротивлялась? Кажется, тогда она еще помнила ее имя, а сейчас вот забыла, может быть, она решила не помнить его, когда сидела на полу у себя в комнате и плакала, прижимая к груди разорванную кофточку.
Почти в то же время она познакомилась с Хуа Бай. Та жила в соседнем доме и часто по вечерам гуляла на улице – сначала Ван Сун подумала, что она тоже ищет себе компанию, но потом выяснила, что искала она постоянно сбегающего кота.
– Невероятно непослушный, – поделилась Хуа Бай в день их знакомства. Ван Сун тогда подошла к ней, подумав, что может предложить помощь. У нее плохо складывалось с работой – молодую девушку без семьи и без мужа никто к себе брать не хотел, поэтому большую часть времени она ухаживала за садами – старенькими, с маленькими алтарями, натыканными где-то в гуще деревьев, заброшенными из-за восстаний и кризисов, но все равно ценившимися чиновниками[16], желающими сохранить последние напоминания о былом могуществе, – но проходить мимо не хотелось. Хуа Бай улыбнулась и сказала, что у нее все хорошо.
Она была писательницей и руководительницей курсов для девушек: и китаянок, и маньчжурок, за что кто-то ее осуждал. Но она считала, что разницы нет – потому что помощь нужна всем. Бегала легко и быстро по городу – интересно, из какой семьи она была, раз ей даже в детстве не бинтовали ноги? – впрочем, и за других девушек Хуа Бай боролась, пыталась искать врачей, писала листовки. Ван Сун она очень нравилась – яркая, громкая, красивая, с длинными, немного на европейский манер скроенными платьями.
– А разве тебе так удобно? Ходить в таких длинных? – спрашивала Ван Сун, вечно мучившаяся с попытками удобно подогнуть юбку.
– Нет, но это очень красиво.
– Ты хочешь так найти мужа?
– Нет, – снова сказала Хуа Бай. – Я хочу выходить на улицу и чувствовать себя императрицей.
Хуа Бай жила на чердаке – она говорила, что тут дешевле и удобнее. Ван Сун не понимала, что конкретно удобного в том, чтобы биться головой о низкие потолки, но не возражала – ей чердак Хуа Бай тоже нравился. Это был дом, построенный совсем недавно, тоже на европейский манер, впрочем, маленькие дракончики, спрятавшиеся под лестницами, напоминали о том, где на самом деле тот располагался. Когда к Хуа Бай приходили матери с детьми, она рассказывала им сказки о том, что по ночам эти дракончики убирают пыль и моют подоконники.
– А почему ты не хочешь искать мужа?
– А зачем он мне нужен? – спрашивала Хуа Бай.
– Все девушки об этом мечтают.
– И ты тоже?
Ван Сун задумывалась. Замуж она совершенно точно не хотела – ей не нравились мужчины, она не хотела находиться с одним из них в доме круглые сутки, ей не хотелось, чтобы он решал, как ей жить. Зачем, если сейчас она вольна делать все, что захочет? Да и живет она не одна – теперь они почти все время проводили вместе с Хуа Бай.
И та привела ее к себе на курсы, став той самой сестрой-матерью, которой у Ван Сун никогда не было.
– Сегодня мы идем в парк! – Когда Ван Сун переехала к Хуа Бай, ее стали будить в безбожно раннее время. Хуа Бай в целом спала мало, впрочем, это никак не влияло на ее энергичность – она носилась по комнате с энергией маленького мельничного колеса, быстро убираясь, переодеваясь, болтая на ходу: вот она скидывает ночнушку, зябко ежится, поводя плечами, натягивает рубашку, юбку, жакет, переступает босыми ступнями по полу, ругается на то, что снова никто ни черта не топит.
– Зачем? – Ван Сун высовывает голову из-под одеяла и залезает обратно, получив по носу ледяным воздухом.
– Там красиво, – легко отвечает Хуа Бай. – Хочу насобирать листочков, а потом сделать гербарий. И нашу комнату на курсах можно украсить.
– А если мы пойдут туда днем, а не утром, то красиво уже не будет?
– Днем там будет толпа народу, так что, конечно, не будет.
– Ты жестокая, – ворчит Ван Сун.
– Продуманная.
Она кидает в Хуа Бай подушку, а та ловит ее и звонко смеется.
Она вообще очень красивая, но когда смеется – совсем расцветает, у нее широкая улыбка, ямочка на щеке, темные сверкающие глаза, а вот невысушенные с вечера волосы падают колечками на полуобнаженные плечи.
И как Ван Сун может отказать?
– Парк так парк, – покорно соглашается она, выползая из-под одеяла.
Завтрак она ест невоодушевленно, в основном просто зависает над тарелкой, и в парк они в итоге попадают довольно поздно, потому что Хуа Бай забывает дома бумажку с адресом, они ходят по улицам, выспрашивая у прохожих, теряются в каком-то переулке, потом Хуа Бай заводит их на какой-то пустырь, откуда они почти убегают.
– Больше с тобой никуда не пойду, – решает Ван Сун.
– Разумеется, пойдешь, – возражает Хуа Бай. Она широко улыбается, а потом озорно закусывает губу. Она и так не сильно взрослая, кажется, ей меньше двадцати пяти, в такие моменты кажется совсем девчонкой.
– Видимо, да, – беспомощно соглашается Ван Сун. Хуа Бай берет ее под локоть и тащит в направлении все же намечающегося вдали парка.
В целом, конечно, Хуа Бай кажется слишком острой, чтобы к ней можно было привязаться – она не позволяет вольностей, часто злится, ругается на всех, кто ей хоть чем-то не угодил, убирается на чердаке каждый вечер и сурово порицает всех, кто не нравится, но именно это Ван Сун в ней и цепляет – почти беспощадная жестокость ко всем, кто Хуа Бай окружает.
– Они сволочи, – говорит Хуа Бай, когда видит по вечерам на улицах девушек. – Не девочки, конечно, а мужики, которые ими пользуются. Сволочи и гады. – Сам виноват, – она переступает через какого-то пьяницу и ускоряет шаг.
– Может быть, у него жизнь так сложилась, – замечает Ван Сун. – Что никто не смог ему помочь.
– А почему я должна? Я не богиня, чтобы помогать всем нуждающимся.
– Так кому ты тогда помогаешь?
– Тем, кому хочу. – Ответ звучит, как движение ножа, вспарывающего горло, – быстро и гордо. – Девушкам, которым и так никто не помогает. А остальные сами как-нибудь разберутся.
– Хорошо, – кивает Ван Сун.
Впрочем, иногда грани Хуа Бай сглаживаются – по вечерам, когда с нее, как вторая кожа, сползает строгая дневная оболочка. Она улыбается шире, шутит, садится рядом с Ван Сун и болтает с ней о всяком – книжках, платьях, прическах, сказках. Свет лампы тонет в ее темных, жестоких глазах, как пальцы перебирают подол платья, как она закусывает в задумчивости губу.
– Почему ты живешь совсем одна? – спросила ее как-то Ван Сун в один из таких вечеров. – У тебя даже родителей нет?
– Они погибли, – сухо ответила Хуа Бай. – Я жила с бабушкой, но та тоже умерла, а теперь вот живу с тобой, почему же одна?
– Но это другое, – возражает Ван Сун.
– Да нет, почему? Ты мне тоже почти как семья. И Ляньхуа у меня есть.
Ляньхуа звали ту самую кошку Хуа Бай – белую, громадную и удивительно вертлявую для своего веса.
– И правда, – бормочет Ван Сун.
Хуа Бай знакомит ее со своими ученицами – девочками чуть младше Ван Сун, шумными, болтливыми, яркими-яркими, стайками курсирующими по комнате, где идут занятия, более тихими, но такими же улыбчивыми замужними женщинами, совсем пожилыми, помнящими еще жизнь при императоре Даогуане. Есть еще помощница Хуа Бай, Ло Хуан. У нее короткие, кажется, из-за какой-то болезни, волосы, она ходит, чуть хромая, смеется громче всех на шутках и обожает мандарины.
Ван Сун вместе с Ло Хуан сидит в уголке на разных занятиях и наблюдает, как Хуа Бай преподает – в такие моменты так преображается, расцветает, как птица феникс. Говорит громко, хотя и обычно не отличается скромностью, взмахивает руками в широких, похожих на фонарики, рукавах, стучит каблуками по истертым половицам.
– Удивительная девушка, – говорит Ло Хуан, а Ван Сун согласно кивает. Правда, удивительная.
Именно Ло Хуан знакомит ее с другими девушками-преподавательницами: Хуа Бай с ними общается редко, предпочитая, как она говорит «действительно существенные действия бесконечной болтовне».
– Они собираются не очень часто, все занятые, но тебе может понравится, – говорит Ло Хуан, ведя ее на одну из встреч.
– А мне туда можно?
– Почему же нельзя? – Ло Хуан улыбается.
– А нет никакого ценза?..
– Нам он не нужен, достаточно просто быть девушкой.
И Ло Хуан же знакомит ее с еще одним человеком – она называет его У Вэй, хотя звучит имя сомнительно, с какой-то высокомерной насмешкой. Ван Сун тогда еще интересуется, созвучно ли это даосскому увэй[17], про который ей рассказывала Яо Юйлун, с насмешкой вспоминая, как этим же термином буддисты переводили «нирвану», а потом – как при переводе подделывали неприятное «Муж поддерживает жену» в жестокое «Муж контролирует жену», но Хуа Бай пожимает плечами и отвечает: «Вроде нет, там иероглифы другие, но кто его знает». Хуа Бай его не любит – она кивает, когда Ван Сун рассказывает ей про него, но больше не произносит ничего. Сложно сказать, сколько У Вэю лет – он кажется совсем юным мальчишкой, может, чуть старше самой Ван Сун, но есть в нем что-то слишком мрачное для такого возраста. Он представляется мужем Ло Хуан, человеком, который поддерживает их начинание, впрочем, обещает в него не лезть. У него непривычно длинные волосы, будто он забыл, что восстание закончилось, Небесное царство разрушено, а отпущенные пряди – все еще признак непокорности – так же непокорно и гордо сверкающие темные глаза, почти такие же жестокие, как у Хуа Бай, ледяные руки и насмешливая, понимающая улыбка.
– Вы тут новенькая, я прав? – спрашивает он при первой встрече.
– А вы приходите так часто, чтобы сразу понимать, кто тут впервые? – откликается она.
У Вэй смеется, и в этот момент в его глазах мелькает капелька жизни, впрочем, она довольно быстро тает в черноте.
На собрании он сидит тихо, слушает болтовню, напоминая Ван Сун паука в углу: сначала заметно не особо, но потом как свалится на голову в темноте – и страху не оберешься.
– А вы тоже девушка, раз вас сюда позвали? – задиристо спрашивает она его. У Вэй удивленно распахивает глаза, а затем приглушенно смеется.
– Я тут на правах кота, красивый, молчу, мной можно любоваться.
– Какая высокая самооценка.
– Нужно соответствовать жене.
– Очень разумная мысль.
– У меня других не бывает.
Ван Сун насмешливо хмыкает.
– Чем вы занимаетесь?
– Слежу за храмами.
– Вы шаман? – Ван Сун сама не понимает, почему ей в голову приходит такое старомодное слово. Возможно, дело в том, что сам юноша – словно воплощение слова «старомодный», будто посыпанный золотой пылью: волосы чуть с проседью, темные печальные глаза, скорбно поджатые губы, одежда, вышедшая из моды еще, кажется, при Цинь Шихуанди.
– Что-то вроде того, – соглашается юноша.
Он становится маленькой тайной Ван Сун.
– Куда это ты? – Хуа Бай сидит на кровати и зашивает платье, у подола которого разошелся шов.
– Гулять, – отзывается Ван Сун, не упоминая, что идет она с У Вэем. Хуа Бай бы не заперла ее в доме, но Ван Сун знает – не одобрила бы. Не очень понятно, за что тот так сильно Хуа Бай не нравится, но факт есть факт – та терпеть его не может, домой никогда не зовет, по имени обращается редко.
Так что пусть лучше не тревожится лишний раз.
– Она особенная, – так говорит У Вэй про Хуа Бай. – Сложная сильная девушка, которой не нужно объяснять, почему она кого-то не любит.
– Вас это не задевает?
– Ничуть. Напротив, мне лестно, что такой, как она, я сильно не нравлюсь. Это своего рода достижение, – он улыбается.
– А что в таком случае любовь Ло Хуан?
– Тоже достижение, просто в другой битве.
– Девушки не трофеи, за нас не нужно бороться.
– О, – он забавно, чуточку наигранно округляет рот. – Я полагаю, вы самые сильные противницы и самые сильные союзницы в любой битве, а не трофеи.
– И в какой же битве Хуа Бай стала вашей противницей?
– Вы засмеетесь, если я скажу.
Они сидят у фонтана на площади – фонтан этот находится на последнем издыхании и с трудном выплевывает клочья мутноватой, пахнущей канализацией воды на заросшие плесенью плиты.
– Ничуть.
– В битве колдовства и разума.
– Хуа Бай будет на стороне разума?
– Разумеется. И мне нравится, что вы мгновенно записали меня в колдунов, – У Вэй ей подмигивает. Не пытаясь понравиться, просто подмигивает – весело, дразня.
Ван Сун вытягивает ноги и начинает рассматривать стоптанные носочки ботинок.
– Вы очень на него похожи. Не на колдуна, наверное, а на божество.
– Как Фу Си?
– Не-а. Скорее, на маленького вредного духа лисы, который погрызет все ваши посевы, расстроится, если вы повесите над входом оберег, и потребует вашего первенца в качестве платы за моральный ущерб.
У Вэй начинает хохотать – тепло и искренне, впрочем, его глаза остаются такими же мертвыми, что выглядит чуточку пугающе, только чего Ван Сун бояться? У нее нет ни посевов, ни первенца.
– Звучит замечательно.
– Обращайтесь.
Мимо них пробегает ребенок, буксирующий на веревочке воздушного змея.
– Вам нравится то, чем вы сейчас занимаетесь? – спрашивает У Вэй.
– Да я особо ничем не занимаюсь, – качает головой Ван Сун. – Так, немного помогаю Хуа Бай.
– Но это же все равно дело.
– Тогда не знаю, мне нравится, но это же не моя профессия, а ее.
– А чем хотели бы заниматься вы?






