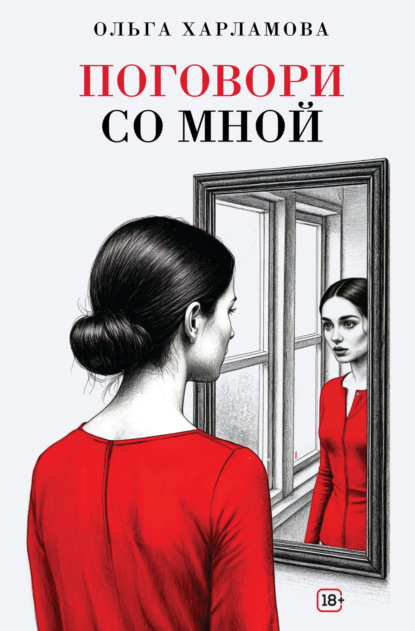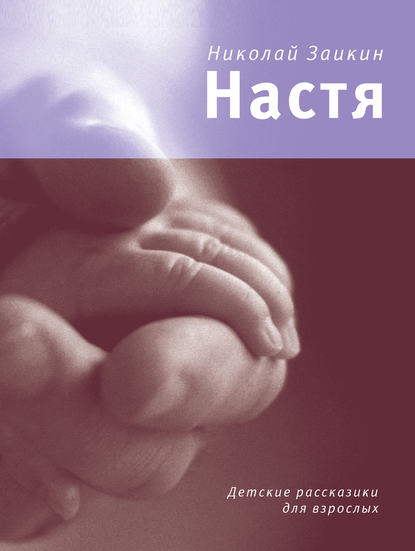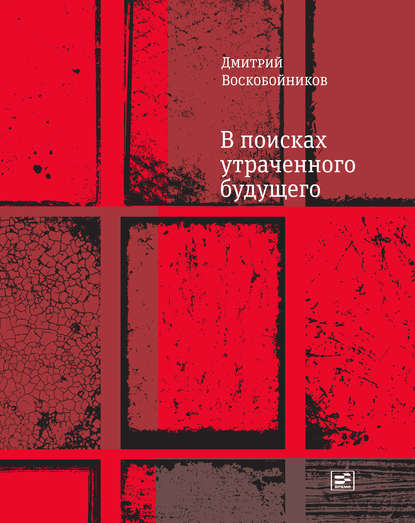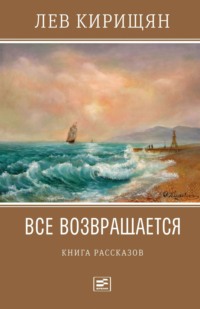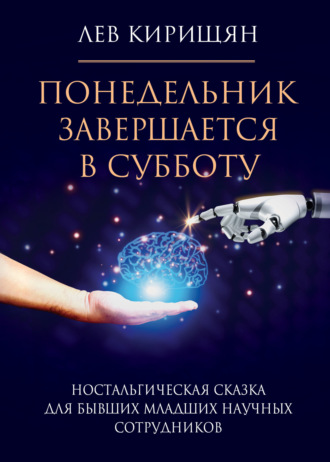
Полная версия
Понедельник завершается в субботу. Ностальгическая сказка для бывших младших научных сотрудников
Саша был человек молодой, что позволило ему от следующего визита отказаться, причем вслух.
– А я больше к вам не приду, – заявил он. – Я здесь не в армии и не в тюрьме, с секретными документами мне работать незачем, на секретные объекты ездить не хочется. Так что ищите себе кого-нибудь другого, а я сюда больше не приду!
Вернувшись обратно в лабораторию, Саша радостно сообщил, что пиво пить он теперь будет безостановочно, так как Первач решил отстранить его от работы с «западными товарищами». Однако настроение его было испорчено основательно.
Завлаб позвонил Шефу и поведал вкратце «состав вопроса», но договорить ему не удалось, так как Шеф уже начал отвечать. Собственно, трубку телефона, можно было вполне положить на место, так как слышно было и так, причем всему этажу, причем весьма отчетливо и без телефонных помех.
– Он кто такой? – орал Шеф. – Я назначил своего сотрудника. Я принял решение, а этот старый хрыч будет мне тут рассказывать, как надо людьми руководить. Я ему сейчас расскажу, чем он должен руководить. Его дело там в какой-то его бумажке печать поставить, пусть ставит, что он мне здесь в эн-ка-вэ-дэ играет. Я ему сейчас позвоню!
О, великое изобретение – телефон! Спасибо мистеру Александру Беллу, что он изобрел устройство, которое сократило в сотни раз человеческое мордобитие, увечья и безвременную гибель! Теперь стало возможно смело говорить прямо в ухо обижаемому лицу все, что обижатель об этом обижаемом лице думает в данный конкретный момент. Причем говорить без всякого риска получить по собственному лицу непосредственно через телефонную трубку. С другой стороны, в порыве чувств можно было и влепить трубкой телефона по чему-нибудь, и даже эту трубку поломать к чертовой матери. А при достаточном количестве резервных телефонов диспут можно продолжить, пока телефонов хватит. Наверное, по этой причине у большинства институтского начальства телефонов вокруг их рабочего стола было несметное количество. Видимо, это открывало какие-то большие возможности в наиболее интересные моменты телефонных дебатов друг с другом.
Будучи крупным профессионалом в области «человеческих отношений», Шеф через трубку телефона стимулировал Первача как только мог. Он весьма развернуто поведал ему о своих тесных отношениях с наиболее близкими родственниками руководителя Первого отдела, которые у Шефа сложились в связи с не совсем правильным пониманием того, кто руководит его, Шефа, отделом. Особо близкие отношения, оказывается, имели у Шефа место быть по поводу наличия Первого отдела как такового. Причем отношения эти, как неожиданно выяснилось, имели место быть практически со всеми сотрудниками этого отдела, а также с его инструкциями и основными положениями. Беседа длилась не более получаса, за время которого было разбито: а) телефонная трубка – 1 штука; б) пепельница стеклянная – 1 единица; в) надежды на мирное решение вопроса – все.
И тем не менее Шеф, видимо, что-то недоговорил, то ли очередной телефон оказался «недоподключенным», то ли не о всех близких родственниках оппонента вспомнилось в пылу полемики, так как следующие полчаса невольные слушатели отдела вынуждены были выслушивать все то, что недовысказалось в недоподключенную трубку.
– В общем, пиво пить спокойно мне не дадут, – резюмировал диспут Саша.
– Не спеши с выводами, Сашенька, еще не вечер, – успокоил его премного видевший Завлаб. – Сейчас погоди, Шеф поскачет добивать Первача к Директору, а там еще не факт, что Директор, наш всеобщий любимец, его поддержит. Хотя кто его знает? Этого первоотдельного кляузника все терпеть не могут, но, знаешь, как говорится, «живя в стеклянном доме, не надо швыряться камнями». Директор у нас, как известно, дипломат. Так что, может, тебе и повезет, и «пожертвуют» они тобой, и будешь ты в «Байконуре» свои баки пивом заправлять!
Слово – дело! И действительно не прошло и пяти минут, как, оставляя за собой шлейф грохота и визга, Шеф рванул в директорский кабинет для выяснения в очередной раз «кто в доме хозяин».
Директорский кабинет представлял собой нечто принципиально отличное от самого Института. Во-первых, кабинет, который сам по себе был необъятен, имел перед собой не менее необъятную приемную, именуемую в Институте не иначе как «шлюз». Все это образование было в паркете, коврах на полу, дубовой обшивке стен, импортной офисной мебели, т. е. во всем том, что в остальном убранстве Института отсутствовало напрочь. Объяснялась эта категорическая разница тем, что кабинет и приемная представляли, по мнению руководства, так называемое лицо Института. При этом сотрудники Института, возвращаясь из этого «лица» к себе в лаборатории, уставленные аппаратурой «не первой свежести», и точно зная, на какие стулья можно садиться, а на какие опасно для жизни, вполне понимали гигантскую дистанцию между «лицом» Института и, видимо, его «задом».
«Шлюз» был оформлен проще, чем сам кабинет, так как посетители, ожидавшие приема Директора, должны были за время ожидания в «шлюзе» полностью ощутить принципиальную разницу между ними, шлюзующимися, и самим Самым. Время ожидания приема колебалось от одной секунды для особо важных гостей до нескольких часов для не особо важных сотрудников самого Института. В качестве ворот «шлюза», предотвращавших преждевременное попадание тех или иных посетителей, собственно, в кабинет, служил секретарский стол, обороняемый секретаршей Директора, Мариной Семеновной. Средствами обороны и нападения на секретарском столе служила целая дивизия телефонов, интеркомов, каких-то звонков, пультов и т. д. В центре же секретарского стола горделиво возвышалась реликтовая печатная машинка, которая помнила всех директоров, секретарей и секретарш, хладнокровно печатая приказы о вынесении благодарностей и вынесении из стен. Эта машинка олицетворяла собой всю долгую и непростую историю Института и называлась в народе «Железный Феликс», видимо, потому, что была практически ровесником соответствующему «рыцарю революции». Через подобный заслон мог пробиться к Директору не каждый, но не Шеф. Шеф, входя в «шлюз», «шлюза» как бы не замечал! Он не замечал ни дожидающихся своей очереди посетителей, ни грозного строя оборонительных предкабинетных укреплений с вечно что-то печатающей на «Феликсе» Мариной Семеновной. Более того, он не замечал Марину Семеновну как таковую, даже когда она грудью бросалась на Шефа, как на фашистский танк, изрыгая из себя шквал предупреждений, запрещений и возмущений. Шеф видел перед собой только дверь, за которой прятался Директор, и не было такой силы, которая бы могла остановить тушу Шефа с грохотом и ревом вваливающуюся в «шлюз».
Тем не менее какое-то психологическое воздействие на Шефа «шлюз» все же оказывал, причем дистанционно. Уже на подходе к директорским покоям в реве, изрыгаемом Шефом, переставали прослушиваться некоторые специфические обертоны, в основном связанные с «материнскими отношениями» Шефа и очередных его обижателей. Теоретически у Марины Семеновны, как у павловской собаки, давно должен был бы выработаться условный рефлекс на бессмысленность попыток остановки Шефа на его пути к Директору, но проходили годы, а рефлекс все не вырабатывался и не вырабатывался. На неоднократные гипотетические посылы по этому поводу Шеф как-то категорически отрезал: «Что? Какие рефлексы там могут вырабатываться, когда она в сто раз глупее любой собаки. Она же динозавр, а у динозавров ничего не вырабатывалось, потому они и вымерли!»
На этот раз Шеф ворвался в директорскую приемную с тезисом «Он кто такой, – я спрашиваю, – нет, кто он такой?». Марина Семеновна привычно рванула с места наперерез, рассказывая, видимо, окружающим, о том, что Директора сейчас нет, но он скоро будет. В ответ на это Шеф непосредственно и в упор спросил директорскую секретаршу: «Нет, этот мерзавец, он кто такой, я вас спрашиваю? Вот вы мне можете сказать, он вообще откуда здесь взялся?» При этом движение к директорской двери продолжалось. Марина Семеновна закрыла собой все обозримое пространство неузкой директорской двери. Складывалось даже такое впечатление, что секретаршу в основном и подбирали по этому размеру.
– Директора нет, – резко отрезала она. – Вы понимаете?!
– Как это нет, когда я с ним только что говорил, – грубо наврал Шеф. – Причем только что.
Несмотря на то что эта дешевая уловка применялась Шефом всегда, Марина Семеновна перед открытым и честным взглядом Шефа вновь смутилась. Это смущение вызывалось тем фактом, что в действительности никто в Институте не мог с определенностью сказать, когда же Директор, помещавшийся в своем кабинете, там есть, а когда он там «скоро будет», оттуда при этом не выходя. Далее Шеф вновь вопросил в голос: «Нет, он кто такой?!», отодвинул Марину Семеновну с занятой ею оборонительной позиции и вошел к Директору.
Встреча Директора и Шефа ведущего отдела в народе называлась «лед и пламень». При этом кто кого там гасил, а кто растапливал было заранее не предсказуемо. Хотя, вообще-то говоря, Директор, негласным прозвищем которого было Кот Леопольд, сотрудников своих как-то мирить умел. Прямо с порога Шеф непосредственно спросил Директора, которого в кабинете, по официальной версии, не было: «Он кто такой?» После чего дверь закрылась, а в «шлюзе» ожидающим осталось только догадываться, когда окончится очередное выяснение отношений.
Утром следующего дня стало ясно, что Шеф одержал очередную победу над предпенсионным энкавэдэшником, путем регулярного задавания вопроса о том, какой по номеру отдел «кормит» Институт, а какой «кормится». Последней точкой дискуссии было его заявление Директору о том, что если вмешательство со стороны «некомпетентных органов» будет продолжаться, то он их всех скоро «прекратит». И видимо, это подействовало, хотя и было не совсем понятно, кого и как будет «прекращать» Шеф.
Результатом достигнутой с таким шумом победы было официальное назначение Саши в рабочую группу для работы с «иностранными специалистами».
– Ну вот, что я тебе говорил, – радостно констатировал Завлаб. – Еще не вечер, а ты все «Байконур» да «Байконур»!
– Теперь, слушай сюда, – продолжил Завлаб. – По последним сводкам институтского Информбюро, в Большой лаборатории решено в «темпе аллегро» отсозидать местный вариант потемкинской деревни.
– Ну вы представляете! – воскликнул он. – Приезжают импортные специалисты и вдруг видят на месте разворачивания их сверхсовременной и всевычислительной системы стоит наш стол, оцарапанный многими поколениями наших наладчиков! А если они еще и смогут прочитать то, что там конкретно нацарапано?! международный скандал получиться может!
– А посему, – продолжал он, – из каких-то там фондов нам выделены: стульев вращающихся, никелированных – шесть штук; столы монтажные, новые – две штуки; шкафы и инструменты и, что самое потрясающее, нам, наконец, всего через два года после заказа, привезут столь долгожданный шлейфовый осциллограф и частотомер, которые, правда, для этих работ не нужны, но иначе мы бы черта с два их когда-нибудь получили.
– А теперь весь личный состав мобилизуется на уборку Большой лаборатории и расстановку предметов «первой необходимости». Вперед, заре навстречу с вениками и песнями! – резюмировал Завлаб.
Приведение лаборатории в порядок был, конечно, процесс, причем процесс нечастый. Необходимость в нем, как правило, возникала лишь при ожидании приезда какой-нибудь министерской или, еще страшнее, Межведомственной комиссии, которые приезжали принять очередную разработку Института.
Преображение лаборатории в приемо-сдаточное состояние включало три основных элемента. Первое – уборку мусора, копившегося там порой годами, проведение небольшого косметического ремонта помещения, включавшего покраску стен, побелку потолка и порой даже циклевку паркетного пола; второе – обстановку помещения лучшей мебелью, которую можно было найти в отделе, а порой даже и в Институте. Причем обязательным элементом убранства являлся так называемый уголок отдыха, включавший в себя совершенно необъятный диван, пару кресел и специально для этих случаев жившую в отделе пальму. Предполагалось, что члены комиссии будут, принимая работу, сильно уставать, что потребует их отдыха под пальмой, либо прямо же под пальмой и будут эту работу принимать. И третье – установку в лаборатории как можно большего количества всевозможной аппаратуры, как правило не имевшей никакого отношения к сдаваемой работе. Главное, чтобы аппаратура была бы блестящая, жужжащая и мигающая всеми лампами и экранами. Замысел, видимо, заключался в том, чтобы, с одной стороны, продемонстрировать, какие приборно-технические ресурсы были задействованы для выполнения сдаваемой работы, а с другой стороны, создать так называемый приборный шум, где среди всевозможных приборов вообще трудно понять, что сделано в рамках самой работы, а что нет.
Работы по развертыванию потемкинской деревни были в полном разгаре, когда к подъезду Института подкатил небольшой автобус. Собственно, появление автобуса вряд ли было бы замечено, если бы из него не стали вдруг доноситься некие загадочные звуки, причем довольно громкие. Саша выглянул в окно и ошалел – прямо у входа разворачивался небольшой духовой оркестр!
– Слушайте, мужики! – воскликнул Саша. – Я не понимаю, мы кого вообще встречаем, президентов, султанов или фирменных наладчиков?
А тем временем оркестр развернулся полностью и начал издавать уже не просто разрозненные звуки, но что-то отдаленно напоминающее мелодию. Каждый, кто хоть раз слышал, что такое настройка духовых инструментов, может оценить все мужество непроизвольных слушателей, которые были вынуждены слушать нечто, напоминавшее гимн Советского Союза и, видимо, гимн «импортной» страны, в течение всего пары часов, пока шла спевка оркестрантов у ворот Института. Вспоминалась душевная фраза из миниатюры Михаила Жванецкого: «Подождите, вы же еще не слышали наше звучание!» – «Я себе представляю!»
– Ну теперь нам осталось только флаги на башнях поднять и вооружить всех способных носить оружие для создания собственного почетного караула, – резюмировал Завлаб. – Тогда уже можно совершенно спокойно встречать дорогих «империалистов».
– Ага, и еще потом доблестный марш устроить всех трех родов бездельников нашего Института – администрации, месткома и страшно вымолвить… парткома, – добавил Саша.
– Ты это брось тут парады устраивать, – заметил Заведующий лабораторией, – так вы всех иностранцев распугаете! Как же мы потом разрядку напряженности будем проводить, когда они наше самое страшное оружие увидят.
– С чего это наша славная администрация вдруг стала являть собой «страшное оружие»? – вопросил наивный Саша.
– А с того, что, как в том анекдоте поется, они быстрее атомной бомбы экономику любой страны уничтожить могут, причем изнутри! – заверил Завлаб.
Глава 2
Встреча
Каждую вещь следует называть ее настоящим именем, и если боятся это делать в действительной жизни, то пусть не боятся сделать это хоть в сказке!
Ханс Кристиан АндерсенИ вот наконец настал День великой встречи технических представителей разных стран, народов и политических систем, в общем, какой-то современный вариант встречи на Эльбе. По этой вполне понятной причине в Институте не работал никто. Все ждали.
По этому поводу Саша задал лаборатории вопрос: «А вот если бы нас, мол, пригласили бы в какую-нибудь американскую фирму что-нибудь там пусконаладить, также встречали бы?!» Вопрос единогласно был признан дурацким, и только Михалыч сказал: «Нет, конечно, – у них там время – деньги, а у нас тут время – праздник, причем почти все время. Смотри, какое у народа настроение, как под Новый год! А всего-то делов, какие-то два парня приезжают из Штатов к нам в командировку. Не умеют они себе праздники из ничего устаивать».
– Зато живут хорошо, – заметил кто-то из-за угла.
Но Михалыч тут же отпарировал: «Это как же можно жить хорошо, если праздника нету! Ну шмоток там полно, ну еды всякой – праздник где? Вот у нас отстоял очередь, и, например, за чем стоял, вдруг досталось – вот это праздник! Победителем домой приходишь – все тебя тут же любят и уважают! Причем и в доме при этом у всех становится хорошее настроение. А у них что? Ну ты представляешь праздник в их какой-нибудь американской семье, когда отец из магазина салями там принес или кило апельсинов? Никакого праздника при этом не предвидится, когда там сто наименований всяких колбас, а апельсины в магазинах круглый год, когда же радоваться? А у нас при этом одни сплошные праздники. И вообще, по частоте испытания чувства неподдельного человеческого счастья в единицу времени наш человек должен быть уже давно занесен в Книгу рекордов Гиннесса!»
– Нашего человека надо заносить не в Книгу рекордов Гиннесса, а в Красную книгу, – заявил вдруг Саша. – Потому что на единицу испытанного счастья приходится по меньшей мере десятка испытанного несчастья, и баланс все ухудшается и ухудшается! Вот возьмите, к примеру, меня. Как я могу быть счастлив, когда я хочу выпить пива, а не могу?
– Саша, ты же не животное! – воскликнул Завлаб. – Это животные когда хотят, тогда и пьют, а люди пьют только тогда, когда могут! А ты, Саша, носишь гордое звание Человек!
– Ничего подобного, – возразил Саша, – вот наш Шеф, неугасающее светило отечественной науки, мне неоднократно заявлял, что я не человек, а младший научный сотрудник. А мэ-нэ-эс, с его точки зрения, человеком быть не может по определению! Следовательно…
Тут тихое журчание внутрилабораторного трепа было прервано звонком Шефа, который указал Завлабу спуститься на совещание к Главному Инженеру.
Вообще-то на совещания к Главному Инженеру всегда вызывался сам Шеф, но Шеф ведущего отдела к Главному Инженеру Института ходить не любил. Причин было две: во-первых, в то время как Шеф был специалистом в тонкой области «стимулирования» и «мативирования» сотрудников, Главный Инженер был специалистом как раз в области техники, и уже поэтому Шефу трудно было найти с ним общий язык. Во-вторых, была и более глубокая причина далеко не всем понятная с первого и тем более невооруженного знанием реалий взгляда. Эта причина была в том, что Шеф был назначен на свое место из так называемых партийных кругов, а Главный Инженер вырос до своего поста из просто инженеров. Шеф и Главный были не просто из разных команд, но из очень разных кругов общества. И хотя Шеф по рангу институтской иерархии находился в прямом служебном подчинении у Главного Инженера, обе стороны этого факта как бы не замечали. Конечно, Шеф, соблюдая табель о рангах, Главного Инженера «мативировать» не решался, а Главный со своей стороны вполне был доволен тем, что к нему на совещания ходит Заведующий ведущей лаборатории отдела, с которым можно по-человечески говорить, причем на организационно-технические темы без риска быть непонятым.
Как-то однажды Саша, «изобразив дебила на лице», как это называл Завлаб, громко спросил лабораторию о том, как вообще на посту Главного Инженера мог оказаться инженер. На что получил ответ от старейшины Михалыча, которому, по выражению того же Завлаба, терять все рано было нечего, кроме пенсии: «А кто же лямку тащить-то будет, у Главного „спины нету“. „Спина“ его – тяжкая доля, да и „спина“ эта, в общем-то, „беспозвоночная“».
– Как это «беспозвоночная»? – спросил Саша.
– А так, – отвечал Михалыч, – что, когда дадут ему под зад коленом, позвонить в его защиту с большого верха будет некому, вот и пашет как папа Карло, а чем ему еще за свое положение расплачиваться? То-то!
Так вот к этому «беспозвоночному» Главному Инженеру Института, которого и в глаза и за глаза в Институте звали просто Главным, и был вызван Завлаб на совещание. Вообще-то, слово «совещание» ко всему тому, что происходило в кабинете Главного, подходило не сильно. Главный был человеком открытым и до предела демократичным. Маленькая комнатка перед его кабинетом называлась предбанником только по традиции, так как в самом кабинете Главный «бани» никому и никогда не устраивал. Поручения Главного выполнялись больше из уважения к нему, чем из страха перед ним. Постепенно с годами вокруг него сколотилась прочная команда профессионалов, на которую он мог опереться в любой ситуации и которая, понимая обоюдную взаимозависимость, буквально грудью вставала на защиту Главного, когда возникала какая-нибудь очередная бюрократическая интрига против него. Был случай, когда при попытке назначить на его место какого-то очередного министерского паразита, более двадцати человек ведущих сотрудников, заведующих лабораториями, мастеров и даже начальников цехов Опытного завода одновременно подали заявление об уходе из Института и никакие уговоры и угрозы в отношении каждого из них не сработали. С другой стороны, и Главный на предложение так называемого повышения с переводом куда-то в министерские задворки, ответил отказом, на радость всей своей команде.
Типичная картина так называемых совещаний в кабинете Главного выглядела примерно следующим образом: Главный сидел на боку своего колченогого стула, прижав левым плечом к уху трубку одного из многочисленных телефонов. Правая рука его выполняла при этом одновременно ряд функций: что-то писала на очередном клочке бумаги, нажимала на кнопки интеркома, листала какие-то справочники или папки и т. д. Левая же использовалась для отдачи просьб и указаний на языке жестов. Но основную работу все же выполнял голосовой аппарат.
– Алло, это Фрязино? Я не слышу, это Фрязино? – громким голосом взывал Главный. – Иваныч, дай вон ту желтую папку.
Левая рука при этом показывала ориентировочное месторасположение папки, а лицо Главного принимало просительное выражение.
– Алло, Фрязино? – повторял он. – Я вам уже час прозвониться не могу!
Правая рука хватается за какой-то документ, а левая жестом подзывает кого-то из присутствующих.
– Алло, я хочу говорить с Кириллом Матвеевичем.
В это время кто-то из ранее вызванных сотрудников входит в кабинет, точнее, как правило, влетает. Главный прикрывает правой рукой трубку телефона, лицо принимает грозное выражение.
– Василич, где трансформаторы ТН–36? – возмущается Главный. – Двадцать четвертый цех их уже месяц требует, а ты мне их месяц обещаешь.
В это время кто-то отвечает в трубке телефона. Лицо у Главного мгновенно меняется с грозного на радостное.
– Кирилл Матвеевич! – восклицает он. – Да, это я. К тебе прозвониться, как на Марс слетать! Куда вы там все исчезли?
Пока слушается ответ, правая рука пишет кому-то записку, а левая кого-то подзывает. И все в таком духе примерно 25 часов в сутки и 8 дней в неделю!
Несмотря на шумность и суету, царившую на совещаниях Главного, рабочая часть населения Института ходить на совещания любила, так как именно там и получала реальную информацию о том, что, где и когда надо действительно сделать. Собственно, эти совещания и были тем координирующим звеном, которые увязывали работу различных частей Института. И Завлаб Большой лаборатории отправился к Главному.
А в это время в лабораторию заглянул Крокодил Гена. Собственно, Гена в свое время был таким же сотрудником лаборатории, что и Саша. Но далее пути их разошлись. Пока Саша пил пиво с друзьями в «Байконуре», Гена неожиданно стал активным комсомольцем, потом вожаком комсомольской организации отдела, большим любимцем Шефа, который и рекомендовал его на должность секретаря комсомола всея Института. Мнению Шефа, как крупного специалиста в области человеческих отношений, перечить было нельзя, и Гена стал вождем всего институтского комсомола. После этого перед ним открылись широчайшие перспективы в области комсомольско-партийной карьеры, после чего он и получил прозвище Крокодил.
В отличие от мультяшного крокодила Гены, удивительно доброго существа, реальный Гена являл собой прямо противоположные качества, соответствующие скорее природному оригиналу, за что и получил свое прозвище. Так же как и упомянутая рептилия, Гена был существом пресмыкающимся. Внешне он выглядел малоподвижным и ленивым. В действительности это было просто внимательное наблюдение за целью. Когда же цель оказывалась в пределах досягаемости, Гена становился очень шустрым и с широко разинутой пастью бросался на цель и заглатывал ее целиком. После этого наступал период переваривания, в течение которого он опять выглядел тихим и малоподвижным.
Не будучи столь крупными специалистами в области человеческих отношений, как Шеф, Саша и все его друзья давно раскусили этого проходимца. С завидной регулярностью они посылали его вместе со всем комсомолом на соответствующие не первые буквы алфавита, что, впрочем, Гену нисколько не волновало. Саша и ему подобные Геной просто не воспринимались как нечто, заслуживающее внимания. Внимания заслуживали совсем другие люди, с которыми Гена регулярно по комсомольским путевкам ездил в загородные санатории и дома отдыха на так называемые Школы комсомольского актива. Активность, которую Гена там развивал, приносила ему новые связи, а следовательно, и возможности, но, с другой стороны, сильно утомляла. Опухший от почти непрерывных пьянок и последующей активности почти всего актива, Гена возвращался в Институт в свой отдельный кабинет, где целую неделю был не в состоянии никого принимать. Справедливости ради надо сказать, что ни ведущие сотрудники отделов, ни заведующие лабораториями своих кабинетов не имели, но вожак всеинститутского комсомола был столь важной персоной, что без кабинета обойтись не мог никак. А должность его называлась «освобожденный секретарь», причем от чего освобожденный, никак не уточнялось. И вот именно этот освобожденный от каких-либо дел, обязанностей и, самое главное, ответственности за что-либо Крокодил и зашел в Большую лабораторию поприветствовать рабочий класс и прослойку между ним и крестьянством, именуемую советской технической интеллигенцией. Приветствие вожака выглядело бесспорно оригинально.