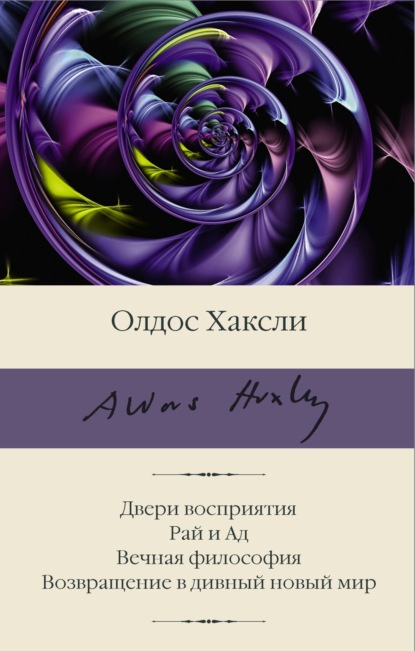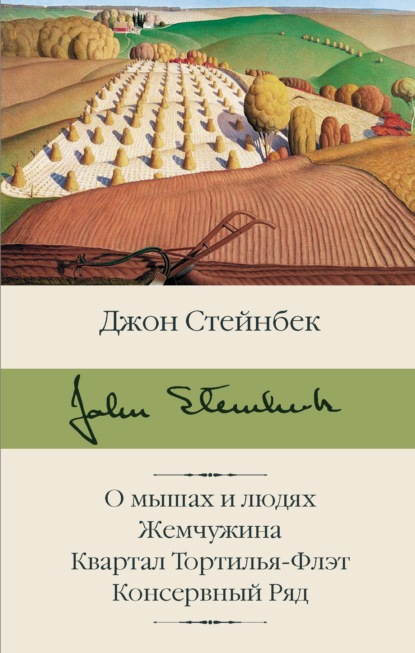Полная версия
Голоса летнего дня. Хлеб по водам
– Пэт, – сказал он, – неужели я должен повторять всю эту печальную историю с самого начала?
– Нет, – ответила она. В глазах ее стояли слезы. – Деньги!.. – яростно прошептала она. – Я ненавижу эти деньги! – Она выкрикнула эти слова очень громко, двое или трое проходивших мимо студентов с любопытством на нее обернулись.
– А ты обязательно должна поехать, – сказал Бенджамин. – Тебе не составит труда найти себе спутника. – Уж это определенно. До сих пор дюжины юношей и молодых людей постарше не обходили Пэт своим вниманием, настойчиво и часто приглашали ее на свидания – и это несмотря на то что она решительно и бесповоротно отказывала всем подряд со дня встречи с Бенджамином. – Там будет весело.
– Мне не будет, – ответила она. – Да я возненавижу любого, кто согласится со мной поехать! Потому что это будешь не ты! Как я могу веселиться, зная, что ты, с кем я так хотела начать новый год, находишься в сотнях миль от меня и носишь заказы каким-то жалким богатым свиньям?..
– И все же, – неуверенно произнес Бенджамин, – мне кажется, ты должна поехать.
– Я не поеду, – ответила Пэт. Лицо у нее было бледное и совершенно несчастное. – Ровно в девять лягу спать. И заткну уши ватой, чтобы не слышать, как зазвенят в полночь эти чертовы колокола!
– Но, Пэт…
– И еще я не хочу больше об этом говорить, – сказала она и зашагала к дому.
– Дорогая, – догнав ее, нежно начал Бенджамин, – обещаю, мы устроим свой праздник первого января. Свой собственный, только для нас двоих! Просто притворимся, что новый, тысяча девятьсот тридцать второй год начался у нас на день позже, чем у остальных, вот и все.
– Хорошо, – ответила она и попыталась выдавить улыбку. – На день позже…
И вот холодным утром 31 декабря группа из четырнадцати юношей, все вперемежку – и новички, и второкурсники, и студенты постарше, – тронулась в путь. И всем им предстояло долгое и утомительное путешествие через Нью-Джерси и Пенсильванию. Прибыв в клуб, довольно претенциозное здание с остроконечной крышей и щедро изукрашенное деревянными балками в стиле эпохи Тюдоров (все это, видимо, было призвано заставить членов клуба поверить, что они являются английскими аристократами), они тут же принялись за работу. Они не успели даже распаковать свой скромный багаж и осмотреться, где им предстоит провести ночь. На протяжении всего свинцово-серого холодного дня и глухой черной ночи, навалившейся резко и сразу, они только и делали, что сновали взад-вперед, обдаваемые то волнами ледяного ветра в северном крыле здания, то тропическим жаром кухни, где варились, парились и жарились блюда. Они развозили на тележках ящики с контрабандным виски, коробки с содовой и имбирным пивом, таскали взятые напрокат стулья и фаянсовую посуду. Все это было предназначено для вечернего торжества.
Прибытие первых гостей ожидалось к девяти вечера. Мальчики были так заняты, что едва выкроили время переодеться к этому часу. Их комнаты являли собой ряд крохотных одноместных номеров-клетушек. Летом здесь проживал персонал. Находились они на третьем этаже, прямо под крышей. Переодевшись, они торопливо пообедали. Кухня была огромная, не слишком чистая и буквально завалена банками с икрой, блюдами с pate de foie gras[10], холодными омарами и прочими яствами. Венчать трапезу была призвана целая стая жареных индеек. Но ни одним из этих блюд официантов не угостили. Каждому подали по две тоненькие сосиски, горчицу в качестве приправы, несколько ломтиков черствого хлеба и по кружке жиденького кофе. Распоряжалась на кухне старая бесформенная и неряшливая с виду ирландка, говорившая с сильным акцентом. Она подскочила и вырвала из рук Бенджамина тарелочку со сливочным маслом. Он, взяв тарелочку с буфета, собирался поставить ее на стол, за которым поглощали свой скудный обед голодные студенты.
– Это не для таких, как ты, парень! – гаркнула старуха и отправила тарелочку обратно на буфет. – Или не знаешь, почем нынче фунт сливочного масла, а?
Тут в кухню ворвался юный Дайер, которого они не видели целый день, поскольку он, высадив ребят у клуба, сразу же поехал в город к отцу. Ворвался и начал поторапливать их. Каждый должен был занять свое место – или в гардеробной, или у стойки бара до прибытия первых гостей. Дайера было просто не узнать. Он должен был помогать отцу в качестве метрдотеля, и на нем красовался безупречного покроя смокинг с белой манишкой, с твердым белым воротничком с отогнутыми уголками. На манжетах сверкали запонки с драгоценными камнями. Куда только девался их всегда приветливый товарищ по кампусу? Бросив нетерпеливый взгляд на часы, Дайер громогласно заявил:
– Давайте, ребята, пошевеливайтесь! Пора за работу.
– Дайер, – сказал Бенджамин, – объясни этой старой кошелке, что я хочу масла.
– Она на кухне главная, – ответил Дайер. – И тут свои правила, очень строгие. Так что извини. И давай поднимай задницу!
– Ну и дерьмо же ты, Дайер, – сказал Бенджамин.
– Сейчас не до шуток, Федров, – заметил в ответ Дайер.
Дверь в кухню отворилась, вошел отец Дайера – полный мужчина с болезненно-желтым цветом лица, с разочарованными и подозрительными глазками пойманного за руку картежного шулера. И он тоже был одет очень нарядно – в смокинг с атласными лацканами.
– Первая машина уже у ворот, – объявил он. – Все по местам! Быстро!
Бенджамин натянул белую форменную куртку официанта и пошел на свое рабочее место, к стойке бара, что находился внизу. По дороге он дожевывал последний кусок волокнистой и холодной сосиски.
К девяти тридцати у бара было не протолкнуться. По некой непонятной причине бар был оформлен в морском стиле. Фальшивые иллюминаторы, мигающие зеленым и красным медные фонари, модели разных кораблей в стеклянных футлярах, огромный штурвал красного дерева, обвитый гирляндой разноцветных лампочек,– и все это за добрые сотни две миль от моря. «Матросский» бар осаждал в основном «молодняк» – супружеские парочки лет за двадцать, юноши из Принстона, Йеля и Гарварда, все как один коротко стриженные. И, как показалось Бенджамину, нарочито высокомерные – они щелкали пальцами, приказывая ему подать выпивку. Была тут и масса хорошеньких девушек и молодых женщин. И все как одна говорили с университетским акцентом, растягивая слоги и глотая на конце букву «а». И на всех на них красовались вечерние платья с глубоким декольте, которые стоили, как догадывался Бенджамин, раз в пять дороже того платьица, что купила себе к Новому году Пэт. И мужчины, и женщины говорили исключительно о таких местах, как Ньюпорт[11], и Хайянис[12], и Палм-Бич, и о том, какой сногсшибательный уик-энд состоялся недавно в Нью-Хейвене, и о том, как это ужасно, что Дадди в очередной раз собрался разводиться. И еще: слышали вы о Джинни и ее совершенно невозможном южноамериканце? И: как ужасно буду чувствовать себя я завтра, поскольку надо поспеть на одиннадцатичасовой поезд на Южную Каролину, а это означает, что вставать придется практически затемно.
Бенджамину казалось, что все эти молодые люди и девушки знакомы между собой чуть ли не с детства и что они обладают уникальной способностью чувствовать себя как дома везде, где бы ни оказались. «Да в этом зале полным-полно Конов, – подумал Бенджамин. – Только все эти „Коны“ – не евреи…»
Самой хорошенькой девушкой, несомненно, была темноволосая красотка в черном платье, почти не закрывавшем грудь. Бретелька платья то и дело спадала самым вызывающим образом с пухлого загорелого плечика. У бара девушку тотчас обступили высокие молодые люди. И оттуда все время доносились взрывы громкого смеха, и вся эта развеселая компания попивала контрабандный виски, коньяк и имбирное пиво. Девушка говорила быстро, мягким возбуждающим полушепотом. Она была страшно самоуверенной и явно наслаждалась своим остроумием, беспрестанно стреляла глазками, упивалась восхищенными взглядами молодых людей, обступивших ее со всех сторон и открыто пялившихся на ее выставленные напоказ прелестные грудки и округлые плечики. Эта группа разместилась в самом конце стойки бара. И Бенджамин, обносивший гостей подносом с выпивкой, поймал себя на том, что и сам, точно завороженный и с замирающим от восхищения сердцем, косится на ее обнаженное плечико.
– Ну тут я и говорю ему,– продолжала свое повествование девушка,– если уж в Гарварде все мужчины так себя ведут, придется мне на будущий год попробовать поступить в Таскиджийский университет!..[13]
Стоявшие вокруг мужчины громко и дружно расхохотались, а она, кокетливо постреливая глазками, переводила взгляд с одного на другого, словно желая убедиться, что каждый воздал должное ее остроумию. И тут она вдруг заметила Бенджамина, не сводящего глаз с ее обнаженного плеча. Он торопливо отвел взгляд, и какую-то долю секунды девица смотрела ему прямо в лицо – оценивающе и ничуть не смущаясь. И взгляд у нее был такой спокойный, холодный и цепкий. Бенджамин почти не уступал в росте ни одному парню из ее компании. Он знал, что хорош собой, а опыт, приобретенный за долгие годы игры в футбол и занятий боксом, придавал уверенности. Он ничуть не сомневался, что может побить практически любого из присутствующих здесь мужчин, причем без особых усилий. Но на нем была белая куртка официанта, и он разносил на подносе выпивку. Глаза девушки вдруг прищурились, а взгляд стал почти враждебным. Она все еще смотрела прямо ему в лицо, зная, что поклонники успели проследить за ее взглядом. А затем нарочито медленно и с оттенком презрения поправила соскользнувшую с плеча бретельку. И резко повернулась к Бенджамину спиной.
Он почувствовал, как кровь прихлынула к его лицу, и ему стало жарко, душно и неуютно. Ему захотелось убить эту девчонку, удавить прямо сейчас. Но вместо этого он, чтобы успокоиться, пересчитал стаканы, поставленные на его поднос барменом, и стал проталкиваться сквозь толпу к столику, который обслуживал.
Взрыв смеха, раздавшийся у него за спиной, заставил его вздрогнуть. Он едва не расплескал виски, и мужчина, сидевший за столиком, поднял на него глаза и грубо спросил:
– Не видишь, что делаешь, ты, придурок?
Бенджамин продолжал исполнять свои обязанности и чувствовал, как его захлестывает ненависть к этим людям. Нет, ему вовсе не хотелось быть похожим на них, но в душе зрело безнадежное желаниеказаться таким, как они, – раскрепощенным, уверенным в себе, незаслуженно вознесенным над всем остальным миром и людьми.
Время от времени он видел Дайера с отцом – те обходили залы и гостей. Теперь исчез не только тот Дайер, которого он знал по кампусу – дружелюбный, приветливый, – но и Дайер с повелительными хозяйскими манерами, которого он недавно видел на кухне. Теперь оба Дайера, и отец, и сын, непрестанно улыбались и кланялись – подобострастно, раболепно. Оба старались показать: ничто не доставляет им большего удовольствия, чем пасть на колени и по очереди перецеловать каждый отполированный ботинок из тонкой кожи, носок каждой атласной туфельки на высоком каблуке.
За обедом Бенджамин обслуживал три стола, за каждым сидели по десять человек. Неуклюжесть и неопытность усугублялись еще и тем, что он, не в силах удержаться, то и дело поглядывал на царственно красивую белокурую девушку в белом платье с декольте, сидевшую за одним из его столов. На вид его ровесница, она обладала некой аурой полной безмятежности – похоже, ее ничуть не волновали шум и суета вокруг. И на протяжении всей трапезы снова и снова наполняла свой бокал контрабандным виски – из поставленных на стол бутылок. После третьего бокала каждый новый ее глоток вызывал у Бенджамина приступ тревоги. «Ты слишком красива, – хотелось крикнуть ему, – слишком хороша и мила, ты не должна напиваться!.. Пожалуйста, прошу тебя, ради меня, не надо напиваться…»
К полуночи освещение в зале приглушили, и вот под завывание рожков, пьяные возгласы, неприлично долгие поцелуи в полумраке в Западную Пенсильванию пришел наконец новый, 1932 год. Все вокруг начали разбрасывать конфетти и ленты серпантина, нацепили бумажные пестрые колпаки. У Бенджамина выдалась свободная минутка, и он, привалившись спиной к стене, подумал о себе и Пэт. Гости поднялись и хором запели старинную рождественскую песню. Бенджамин не пел, он думал о Пэт. Лежит сейчас в постели, заткнув ватой ушки, чтобы не слышать звона церковных колоколов. Ему самому хотелось заткнуть уши ватой – и не только из-за звона церковных колоколов.
Все огни ярко вспыхнули снова, и тут девушка-блондинка с размазанной по лицу помадой поднялась и ровным и твердым шагом прошла мимо Бенджамина. Она стала подниматься наверх по широкой резной деревянной лестнице, ведущей на второй этаж, и исчезла из виду. И Бенджамин подумал: наверное, ушла в дамскую комнату привести себя в порядок. Только бы ей не стало там плохо, с тревогой подумал он через секунду. Сама мысль о том, что это прелестное личико склонится над унитазом, что этот розовый, напоминающий лепестки цветка рот искривится и из него фонтаном хлынет рвота, казалась ему невыносимой. Она отсутствовала минуты две, и тут вдруг Бенджамин увидел, что мужчина, сидевший рядом с ней за столом и непрестанно подливавший ей в бокал, тоже поднялся и двинулся наверх. Их обоих не было минут тридцать. Затем мужчина спустился в зал, один. То был худощавый молодой человек с песочного цвета волосами. На вид ему было лет двадцать, не больше. Обслуживая гостей, Бенджамин невольно слышал обрывки разговоров и узнал, что этот юноша недавно поступил в Дартмут. Вернувшись в зал, он прошел мимо Бенджамина, и тот заметил, что безупречный черный галстук-бабочка, что был на нем во время обеда, исчез.
Минуты две спустя на лестнице появилась блондинка – по-прежнему царственная и невозмутимая, каждый волосок прически на месте, белое платье ничуть не измято. Неспешно и уверенно она начала спускаться вниз, притягивая к себе взоры. В зале к этому времени уже начались танцы. И Бенджамину показалось, что, когда она проходила мимо танцующих, по залу разнесся легкий ропот, между тактами музыки слышался то вздох, то нервный смешок. Но возможно, ему все это лишь почудилось. Девушка вернулась к своему столу, села и кивком поблагодарила студента из Дартмута, который снова наполнил ее бокал.
Примерно через полчаса она вновь поднялась из-за стола и с гордо поднятой головой и прямой спинкой грациозно и неспешно начала подниматься на второй этаж. Совершенно измученный, с трудом лавирующий в толпе гостей Бенджамин, в руках у которого был тяжелый поднос с мороженым и чашками кофе, не сводил глаз со студента из Дартмута. Но тот даже не шевельнулся. Минуты через две после того как красавица скрылась наверху, из-за соседнего столика поднялся темноволосый мужчина лет тридцати. За обедом они с девушкой сидели практически спиной друг к другу. Итак, он встал и начал подниматься по лестнице.
На сей раз пара отсутствовала гораздо дольше, наверное, целый час. Многие гости уже разъехались по домам. Но все равно в зале оставалось еще достаточно людей, и Бенджамин снова услышал перешептывание и нервные смешки (только на этот раз куда более громкие и откровенные), когда парочка появилась на лестнице. Совершенно бесстыдно, рука об руку, спускались они в зал, а затем присоединились к танцующим.
«Боже, что же это делается? – подумал Бенджамин. – Как люди могут себя вести подобным образом? Куда смотрят ее мать, отец, ее священник, ее любовник, наконец?..» О, если бы на нем не было сейчас белой куртки официанта, если бы он не ощущал пропасти, разделявшей его с этой девушкой!.. Он бы взял на себя ответственность. Он бы подошел, поговорил с ней. Но не было в зале ни единого человека, у которого можно было узнать ее имя или адрес. В противном случае он, вернувшись в кампус и защищенный анонимностью, набрался бы храбрости, сел и написал бы ей письмо с призывом беречь себя и свою честь.
Но что он мог сделать здесь и теперь? Ровным счетом ничего. Девушка танцевала с разными мужчинами, Бенджамин ушел на кухню. А когда вернулся, увидел, что ее в зале нет. Осталось лишь несколько пар, лениво и расслабленно топтавшихся под музыку. Наконец оркестр заиграл «Спокойной ночи, леди!», и вечеринка закончилась. Музыканты быстро упаковали инструменты и удалились. Двое парней тащили из туалета какого-то пьяного, с головы до ног перепачканного рвотой. Ни Дайера, ни его папаши видно не было. Отвесив последний поклон, выдавив последнюю подобострастную улыбочку, они, по всей видимости, укатили отдыхать с чувством выполненного долга. Официанты устало поплелись на кухню. Старая ирландка была там – укладывала еду в огромный ледник, а бутылки с виски прятала в маленькой боковой комнатке. На столе стояло угощение для официантов – жиденький остывший кофе в треснувших кружках да черствые рогалики, многие из них были надкушены и явно взяты из корзиночек, стоявших на столах для гостей. Масла по-прежнему не было.
– И что, это все, чем вы собираетесь нас кормить? – спросил ирландку Бенджамин.
– Да, парень, все, – отвечала она. От нее несло перегаром, на губах играла пьяная улыбочка. – А чем плохо? Хлеб штука питательная.
– Но ведь у вас, должно быть, остались тонны жареной индейки!
– Это уж точно, что тонны… – пробормотала старуха.
– Так что ж, их выбрасывать, что ли? – спросил Бенджамин. – Мы же с голоду помираем!
– Обслуге на моей кухне никакой индейки не полагается, – буркнула в ответ старуха. – У меня на кухне всегда был, есть и будет порядок.
– Так почему бы не включить индейку в дежурное блюдо и чем она плоха для официантов, леди? – осведомился кто-то из ребят.
– Не я устанавливаю тут порядки! – сердито и с презрением огрызнулась старуха. – И нечего тут шутки шутить! Я не обращаю внимания на оскорбления слуг. А вы и есть слуги, ребята. Слуги! И лично мне плевать, что все вы из колледжа и воображаете себя джентльменами. Я-то знаю, где вы учитесь, и молодого Дайера тоже знаю как облупленного, пусть он и задирает нос и ходит с важным видом! Меня не провести, нет! Ни ему, ни вам, ребятишки! Вот те молодые люди, что были здесь, они-то и есть настоящие леди и джентльмены! Они ими родились и выросли. Да ни одного из вас сроду не пригласят в дом тех леди и джентльменов, что пировали тут сегодня! И это я говорю для вашей же пользы, парни! Знайте свое место. Послушайте старую женщину, которая всю жизнь провела рядом с настоящими благородными людьми. И тогда избавитесь от многих печалей.
– Шла бы ты спать, бабуля, – грубо и устало огрызнулся Бенджамин.
Старуха продолжала ворчать, но никто из юношей не прислушивался к ее словам. Онемевшие от усталости, они пили кофе и механически жевали рогалики. Или же просто сидели, обхватив головы руками, не в силах двинуться с места.
– Шла бы ты спать, – повторил Бенджамин. – Или валила бы себе обратно в свою Ирландию. С Новым годом и спокойной ночи!
– А ты, я смотрю, еще свежачок!.. Еще хоть куда, верно, парень! – с пьяной ухмылкой на губах заметила старуха. – Интересно поглядеть, каким станешь лет эдак через тридцать, да… Да пойду, пойду я спать, не беспокойся. И Новый год тоже никуда не денется. Но прежде должна выполнить одну приятную обязанность. Мистера Дайера завтра не будет, сама я просплю целый день. И не хочу, чтобы меня будили и доставали такие, как ты. Мистер Дайер поручил мне рассчитаться с вами. – С этими словами старуха извлекла из огромного кармана фартука пачку купюр. И начала пересчитывать и раскладывать на столе в отдельные кучки. – По десять долларов на брата и…
– Десять?! – воскликнул Бенджамин. – Но нам обещали по пятнадцать плюс чаевые!
– Ах ты мой миленький! – усмехнулась старуха. – Знаю, что обещали. Но один ваш паренек, – она указала на юношу по фамилии Каннингем, который сидел, обхватив голову руками, – имел несчастье опрокинуть целую тарелку супа на красивое и дорогое платье одной леди. Платье испорчено навеки, так сказала эта леди. А стоило оно целых пятьсот долларов, и покупала она его в каком-то шикарном магазине в Париже. Кто, скажите, должен возместить ей потерю?.. Не я же… Так что по десять, парни, и еще скажите спасибо, что у мистера Дайера такое доброе сердце!
– Каннингем, ты что, действительно испортил платье этой дамы? – спросил Бенджамин.
– Да, подумаешь, всего и делов-то, что уронил несколько капель супа на ее старые титьки!.. – ответил Каннингем, даже не подняв головы. Это был хрупкий юноша и, проработав почти двадцать четыре часа кряду, он сидел за столом, точно недавно вышел из нокаута, и, похоже, не слишком понимал, что происходит. – Пятьсот долларов… – пробормотал он. – Да моя мать покупает куда лучшие платья в универмаге Бамбергера в Ньюарке. И обходится каждое всего в двадцать пять долларов девяносто пять центов.
– Ну вот, парни, – сказала ирландка, указывая на разложенные на столе аккуратные кучки. – Подходите, берите и кончайте ныть и жаловаться! По одиннадцать пятьдесят на каждого!
– А за что доллар пятьдесят? – спросил кто-то из мальчиков.
– Доля каждого, из общих чаевых, – объяснила старуха.
– О господи!.. – простонал один из юношей. – Вы уверены, что эти бедняги, эта белая кость, что гуляла здесь сегодня, могут позволить себе так потратиться на чаевые? Да они, чего доброго, останутся без икры в будущем году, если станут так швыряться деньгами! Черт бы их всех побрал…
– Никакого богохульства у себя на кухне я не потерплю! – вскипела старуха. – Особенно от таких, как вы! – И с этими словами она выплыла из кухни в подсобку. Сняла фартук, повесила его на крючок, закрыла в подсобку дверь и заперла ее на ключ.
Каннингем откашлялся и запел:
– Там носить зеленое никак, никак нельзя…
Остальные юноши дружно подхватили:
– Такая уж это странная дурацкая страна! – Голоса их гулким эхом отдавались под сводами огромной холодной кухни. – На виселицу попадет всяк, кто по улице пройдет, одетый весь в зеленое, в зеленое, зеленое…
– Это еще не конец! – воскликнул Каннингем.
Тут в кухню ворвалась разъяренная старуха. Пошатываясь, она подошла к Каннингему и погрозила ему пальцем:
– Я не позволю оскорблять ирландцев! Гляди у меня, парень!
– Да он сам ирландец, леди, – сказал кто-то из юношей.
– Знаю, какой он ирландец, – пробормотала старуха. – Подонок он, больше никто! – И снова вышла из кухни. Они слышали, как она неверной походкой направилась через холл к себе в спальню.
– Ладно, – поднявшись, заметил Бенджамин, – в жизни своей еще так не веселился. Иду спать.
Они договорились, что уедут завтра в одиннадцать утра, и устало поплелись наверх, на третий этаж, где под самой крышей разместились комнатушки для слуг.
Подойдя к двери в свою комнату, Бенджамин обнаружил, что она заперта. Борясь со сном, он пытался понять, как такое могло случиться. Он помнил, что перед тем как спуститься вниз, оставил ключ в двери – ведь в комнате у него не было ничего ценного, ничего такого, на что бы мог позариться вор. Но теперь… теперь дверь была определенно заперта и ключа в ней не было… Он пытался поднажать, навалился на нее плечом. Дверь не поддавалась. Тогда он толкнул дверь в соседнюю комнату. Свет там был включен, Каннингем, слишком уставший, чтобы раздеться, распростерся поперек койки.
Бенджамин рассказал ему о двери и отворил окно – посмотреть, сможет ли проникнуть в свою комнату, окно которой находилось футах в трех. В помещение ворвался поток ледяного воздуха, и Каннингем жалобно застонал. Вдоль края покатой крыши тянулся водосточный желоб, сама крыша была покрыта деревянной дранкой, за края которой тоже можно было ухватиться кончиками пальцев. И вот Бенджамин осторожно шагнул на наружный подоконник и стал пробовать желоб на прочность.
– Можешь потом сказать ребятам, – заметил он, обернувшись к Каннингему, – что я пал смертью героя.
Каннингем из последних сил поднялся с кровати и, высунувшись из окна, наблюдал за тем, как Бенджамин дюйм за дюймом подбирается к своему окну, стараясь не смотреть вниз, на землю.
– Да давай же побыстрей, ради бога! – взмолился Каннингем. – Мерзну я, слышишь?
Наконец Бенджамин достиг своего окна и попытался открыть его. Окно тоже оказалось запертым. Ветер продувал его тонкую рубашку насквозь (белые куртки и галстуки-бабочки они оставили на кухне). Жалюзи внутри были опущены, хотя он точно помнил, что не приближался к окну за те несколько минут, что находился в комнате перед работой.
– А, черт с ним! – сказал он Каннингему. Достал из кармана носовой платок, обернул им ладонь и выбил верхнюю часть стекла. Затем, запустив руку внутрь, нашарил задвижку, повернул ее, приподнял раму, потом – жалюзи и вполз в окно. Уже оказавшись внутри, высунулся из окна и сказал Каннингему: – Все о’кей. Можешь идти спать.
Каннингем закрыл свое окно. Бенджамин подошел к двери и включил свет. Затем осмотрел комнату. Он весь так и дрожал от холода – в разбитое окно со свистом врывался ледяной ветер. Постель была в беспорядке. Одеяло сорвано и валяется на полу, смятая простыня съехала. Наволочка на подушке вся в пятнах – от губной помады…
Блондинка, подумал Бенджамин. Пьяная белокурая шлюха! Наверняка охотилась за третьим парнем, а потом заперла дверь и забрала ключ с собой, чтобы воспользоваться комнатой еще раз. Его расческа и щетка тоже валялись на полу. Он подобрал их. В расческе застряли два-три тонких светлых волоска. Неудивительно, что она выглядела столь безукоризненно причесанной, когда спускалась в зал по лестнице. А что, если просто завернуться, укутаться поплотнее в пальто и лечь спать на полу? «Ну уж нет, – подумал он в следующую секунду, пытаясь побороть приступ бешеной и бессильной ярости, захлестнувшей его. – Не собираюсь доставлять этой сучке такого удовольствия!» Он взял пальто и попытался заткнуть им дыру в стекле. Теперь дуло меньше, но все равно в комнате было страшно холодно. На улице наверняка градусов десять мороза. Весь дрожа, он подобрал простыни и застелил кровать. Пятна от помады оказались в самых странных местах. И еще он заметил на простыне большое пятно спермы и уловил хоть и слабый, но вполне различимый раздражающий запах. Выключил свет, улегся на постель прямо в одежде, только ботинки скинул. Натянул тоненькое одеяло до подбородка. Как только тело немного согрело простыни, ноздри защекотал затхлый запах набитого сеном матраса, аромат духов, запах влагалища и мужского семени. Здесь так и воняло сексом. И ему никак не удавалось уснуть, несмотря на страшную усталость. Он лежал и пытался дышать ртом, чтобы не чувствовать, что всем телом жаждет эту девушку, которую совсем недавно оттрахали на его постели двое мужчин. И еще подумал, что, если бы сейчас отворилась дверь и она вошла в комнату, он заключил бы ее в объятия. И тоже занялся бы с ней любовью, если б она приняла его.