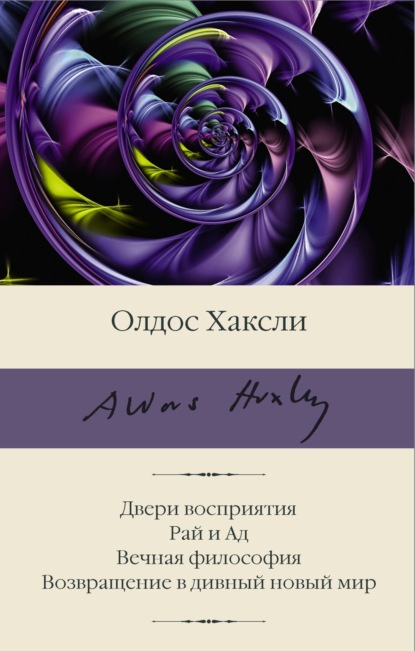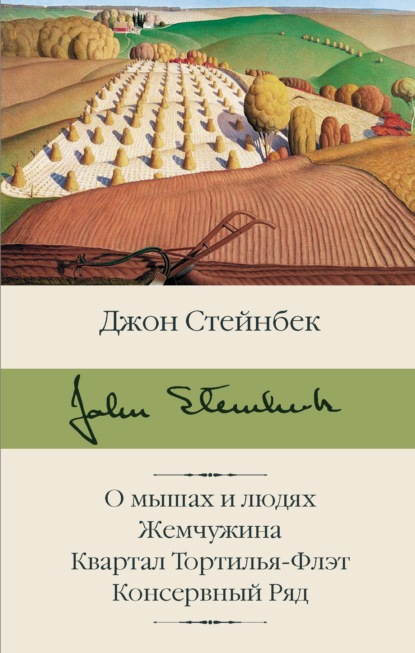Полная версия
Голоса летнего дня. Хлеб по водам
С этого момента Бенджамин вдруг понял, что всегда будет искать девушек, похожих на тех, что видел здесь сегодня. Похожих на ту маленькую брюнетку в черном платье, которая, поймав его взгляд, демонстративно поправила бретельку. Что он всю жизнь будет охотиться за сотнями девушек, подобных тем, что танцевали здесь сегодня, будет стремиться переспать с каждой из них. И еще он вдруг понял, что никогда не женится на Пэт, что только на какое-то время способен сохранять верность одной женщине, а все остальное потратит на неразборчивые связи, будет ошибаться, заниматься блудом. Наверное, он вообще не способен на верность.
– О господи, что же это? – громко простонал он. Встал с постели и включил свет. Потом, весь дрожа, присел на край кровати. Спать совершенно не хотелось. И тут вдруг до него дошло, что он просто умирает с голоду. Он должен хоть немного поесть, иначе просто погибнет. А потом вспомнил: ключ!.. Старуха оставила его в двери небольшого офиса рядом с кухней – в тот момент, когда Каннингем запел: «Там носить зеленое никак, никак нельзя», – и она, разъяренная, вернулась на кухню и набросилась на него.
Бенджамин надел ботинки, подергал дверную ручку. Не поддается. Оглядел комнату в поисках какого-нибудь предмета, с помощью которого можно было бы взломать дверь. И заметил валявшуюся в углу короткую клюшку для гольфа. Очевидно, ее забыл тут летом какой-нибудь мальчик, подносящий мячи и клюшки на поле для игры в гольф. Или же официант, занимавшийся спортом в свободное от работы время. Бенджамин взял клюшку и, действуя ею как рычагом, попытался отодрать верхнюю дверную панель, не обращая ни малейшего внимания на поднятый им шум. Он бешено долбил тонкую планку, и вскоре она стала расщепляться, и образовалась дыра. Отбросив клюшку, Бенджамин уже голыми руками стал отдирать куски дерева. Одна щепка с треском переломилась у него в пальцах, на двери и одежде появились пятна крови, но он настолько вошел в азарт, что и не думал останавливаться.
Казалось, никто в доме не слышал этого шума. Все ребята настолько устали, что их теперь и пушками не разбудить, подумал он. Мало того, ветер так сильно завывал в щелях и каминных трубах, что, казалось, весь этаж был буквально пронизан этим воем, посвистыванием, а также потрескиванием половиц. Скоро отверстие в двери расширилось, через него уже можно было пролезть.
Сначала Бенджамин выбросил в коридор свою маленькую сумку, затем, надев пиджак и пальто, выбрался сам.
Он тихо крался по погруженному во тьму дому. Спустился этажом ниже – там располагались комнаты для гостей, но на зиму их закрывали, и кругом стояла полная тишина. Он начал спускаться дальше по лестнице – и вдруг в ноздри ударил запах пролитого виски, пота, прокисшей еды. И он понял, что находится в обеденном зале. Нашел дверь в кухню, включил свет. На выключателе осталось пятнышко его крови.
В двери небольшого офиса действительно торчал ключ… Он повернул его, вошел. Увидел висевший на крючке фартук старухи. Запустил руку в карман. Да, там была связка ключей. Он достал их, оставив пятнышко крови и на ткани, попробовал отпереть замок ледника. С третьей попытки удалось. Ледник оказался страшно вместительным и был битком набит едой. Оставив его дверцу открытой, он прошел к маленькой комнатке, где хранилась выпивка. И для нее тоже подобрал ключ и отпер дверь. Там находилось минимум десять ящиков виски и с дюжину полупустых бутылок. Бенджамин взирал на эти сокровища, и губы его расплылись в широкой довольной ухмылке. Затем взял початую бутылку виски, отнес ее на кухню, поставил на стол. Пошел к леднику, достал оттуда большое плоское блюдо с индейкой, большую банку икры, тарелку с добрым фунтом гусиной печенки. Аккуратно расставил все эти деликатесы на столе, рядом с бутылкой виски, подошел к ларю с хлебом – он оказался незапертым. Взял шесть рогаликов, вилку и кружку. И уселся за стол, с трудом сдерживая нетерпение и намереваясь получить как можно больше удовольствия от еды. И не спеша начал есть…
Он съел четыре огромных бутерброда с икрой, щедро намазывая ею и маслом рогалики и оставляя на хлебе капельки крови. Затем съел половину паштета, запивая каждый кусок глотком неразбавленного виски. Ему впервые в жизни довелось попробовать pate de foie gras, некоторое недоумение вызвали черные небольшие и восхитительно вкусные вкрапления, включенные в этот паштет. На следующий день Каннингем объяснил ему, что то, оказывается, были мелко нарезанные трюфели. Он сделал себе три сандвича с грудкой индейки и тоже съел. Потом соорудил еще один толстый сандвич и, медленно жуя, поднялся наверх, на третий этаж, где по очереди разбудил всех ребят. Они спали как убитые, и он долго тряс каждого за плечо и отпускал, только убедившись, что они окончательно проснулись и способны понять смысл его предложения. И вот все юноши, спавшие на третьем этаже, быстренько выбрались из постелей, оделись, взяли свои сумки и спустились вниз, на кухню.
– Жратвы с собой не брать! – предупредил их Бенджамин. – Только выпивку. Виски контрабандный, так что жаловаться в полицию они не побегут.
Ребята принялись уплетать паштет, икру, индейку, мороженое, омаров, картофельный салат – словом, все, что нашлось в леднике. А затем добрались и до ящиков с виски и набили свои сумки, рюкзаки, а также картонные коробки бутылками.
– Сегодня вечером, – начал Бенджамин и подумал о Пэт, – сегодня же вечером устроим себе настоящий новогодний праздник.
Было шесть тридцать утра, когда они на цыпочках вышли из здания клуба, возле которого были припаркованы под навесом три автомобиля. Тьма стояла – хоть выколи глаз, но, загружая машины сумками и коробками, света зажигать они не стали. И через пять минут были готовы тронуться в путь. Промерзшие моторы закашляли, но все же завелись, и они покатили по дорожке к выезду на шоссе. И, уже сворачивая на него, увидели мелькнувшее в свете фар внушительное здание клуба, этот замок в стиле Пенсильвания-Тюдор. «Англия, моя милая Англия», – с иронией подумал Бенджамин, когда свет фар в последний раз выхватил из тьмы остроконечную крышу и деревянные балки. И тут здание вновь погрузилось в ночной мрак, а они понеслись вперед, к дому.
Мальчики сменяли друг друга за рулем, а остальные спали. Но Бенджамин никак не мог уснуть. В жизни своей он ни разу ничего не украл. «А теперь я вор», – думал он. И лишь позже как-то примирился с этой мыслью, как примирился с мыслью о том, что ему всегда будут нравиться девушки типа той, белокурой, что воспользовалась его постелью. Правда, в тот момент он слишком устал, чтобы должным образом осудить свой поступок. И еще им владела жгучая ненависть, какой не доводилось испытывать прежде.
В тот вечер они действительно закатили пирушку, но особого удовольствия от нее не получили. Они слишком вымотались, чтоб веселиться, минутное оживление и смех вызвал лишь спор, когда все они по очереди тянули жребий – кому придется первым отметелить Дайера по окончании каникул. Короткая соломинка досталась пареньку по фамилии Свинтон, лучшему ученику в колледже. Но он был слеп как крот, почти ничего не видел без очков с толстыми стеклами. Да и весил фунтов на двадцать пять меньше Дайера. И проблему наказания Дайера решили отложить, обсудить позже, на трезвую голову.
Пэт выглядела просто восхитительно и казалась счастливой и безмятежной. Бенджамин изо всех сил старался подстроиться под ее настроение.
– Славно, правда, что мы устроили свой собственный Новый год? – заметила Пэт. Они с Бенджамином танцевали, а потом ускользнули на кухню, чтобы нацеловаться всласть и пожелать друг другу счастливого Нового года. Но он уже знал, что в душе предал ее, пусть даже реальное предательство состоится еще не скоро, через несколько лет.
Та ночь оставила незабываемый след в душе Бенджамина, и он осознавал это. Порой он страшно стыдился самого себя. Подлые люди поступили с ним подло. И он сам стал подлецом.
Бить Дайера никто не стал. Сам же он ни словом не упомянул о том, что произошло в клубе. А чуть позже его выбрали президентом класса. Года через полтора после той памятной новогодней вечеринки семья Пэт переехала в Орегон. Какое-то время они с Бенджамином переписывались, но радости от этой переписки не было никакой. А сам Бенджамин начал встречаться с другими девушками. Нет, ни одна из них и в подметки Пэт не годилась, если говорить о доброте, храбрости, честности, уме и прочих достоинствах. И тем не менее это ничуть не мешало ему ложиться с ними в постель без любви или притворяясь влюбленным. Позже он сравнивал этот период в своей жизни с бесконечным подъемом по витой резной лестнице.
Окончив колледж и переехав в Нью-Йорк, Бенджамин завел роман с девушкой по имени Прентис, которая, как выяснилось позже, была на той новогодней вечеринке в Пенсильвании. Странно, но ни он, ни она не помнили, что видели друг друга в ту памятную для Бенджамина ночь. И сколько он ни описывал ей развратную блондинку, которая воспользовалась его кроватью, и хорошенькую сучку-брюнетку у бара, Прентис и их не могла вспомнить.
У мисс Прентис, это тоже выяснилось позже, были свои странности. Отец ее служил священником методистской церкви в маленьком городке близ Скрэнтона. Личико и манеру разговора Прентис мать Бенджамина назвала бы утонченными. Роман их длился месяца три, кое-какие его детали и подробности мать Бенджамина ни за что бы не смогла назвать утонченными. И вдруг в один прекрасный день мисс Прентис, сидевшая абсолютно голая на своей широкой двуспальной постели, прихлебывая неразбавленный виски прямо из горлышка, попросила Бенджамина жениться на ней. В то время он зарабатывал двадцать три доллара в неделю и посещал вечернюю школу, где изучал черчение. И хотя время от времени с удовольствием встречался с мисс Прентис, делил с ней ее постель и ее виски, у него и в мыслях не было жениться на ней. Девушкой она была довольно хорошенькой – в эдаком бесцветном блондинистом стиле, но подвержена необузданным вспышкам гнева, рыданиям по поводу и без. К тому же она настойчиво внушала ему, что мясо есть нехорошо, поскольку сама являлась убежденной вегетарианкой. И не выносила даже вида какого-нибудь кусочка цыпленка у него на тарелке. Она была первой его знакомой, которая посещала психоаналитика. И в награду за любовь и виски Бенджамин должен был выслушивать ее бесконечные рассказы о том, что на днях поведала она своему доктору – в основном об отце, его проповедях и каких-то странных снах, в которых животные захлебывались собственной кровью.
– Жениться?! – воскликнул Бенджамин. – Ты что, совсем из ума выжила? Тебе известно, сколько я зарабатываю в неделю?
– А мне плевать, – ответила мисс Прентис, играя блеклыми утонченными глазами и демонстрируя водянисто-бледные груди. Она лежала голая на смятых простынях, прикрывшись одеялом до талии. – У меня есть немного денег. А когда папа умрет, будет гораздо больше.
– Разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя? – спросил Бенджамин, хватаясь за грубость как за спасительную соломинку.
– Нет.
– А ты меня любишь?
– Нет, – ответила мисс Прентис и спокойно отпила еще глоток виски. – Но ты мне нужен.
– Но не настолько же! – заметил Бенджамин, уже подумывая о том, как бы побыстрее одеться и выбраться из этого дома, не показавшись слишком грубым.
– Ты не знаешь… – протянула она. – Меня очень трудно удовлетворить. В сексуальном плане, я имею в виду.
– Что-то я этого не замечал, – сказал он.
– С тобой совсем другое дело, – объяснила она. – В том-то и штука. С другими мужчинами трудно. Ты даже не представляешь, через какие муки мне довелось пройти!
– А что же это во мне такого особенного? – спросил Бенджамин, отчасти недоумевающий, отчасти польщенный. Он был ничуть не против услышать подтверждение самым сладким и тайным иллюзиям на свой счет.
– Ты еврей, – просто ответила она. – А я могу испытывать оргазм только с евреем брутального типа.
– Ладно, обсудим это позже, дорогая, – сказал Бенджамин, выбравшись из постели, и стал быстро одеваться. – Уже поздно, а мне еще надо успеть хотя бы пару часов поработать перед сном.
Шагая к метро по обсаженной деревьями улице в Гринвич-Виллидже, где жила мисс Прентис и где, по всей видимости, было полным-полно евреев брутального типа, Бенджамин недоуменно качал головой. «Ох уж этот загородный клуб в Пенсильвании, – думал он. – Ну и типажи там собираются!..»
* * *В Нью-Йорке он поселился из-за другой женщины, хоть и видел ее всего однажды в течение пятнадцати минут. Случилось это в городской больнице Трентона. Он только что окончил колледж и сдал экзамены, дающие право преподавать в старших классах школы в системе государственного образования. Школа находилась в Нью-Джерси. И вот его вместе с сотней других кандидатов вызвали на медицинское обследование. Врачом оказалась низенькая, коренастая женщина в очках с толстыми стеклами. Через них она взирала на раздетых молодых людей с таким видом, точно все они страдали от некой постыдной болезни. Другой врач, по всей видимости терапевт, прослушал легкие и сердце Бенджамина, проверил у него зрение и записал в карту, что Бенджамин болел в детстве корью и коклюшем. А также что он не хромает и вообще не имеет каких-либо отклонений от нормы. Женщина-врач всего лишь взвешивала кандидатов и измеряла их рост. Когда настал черед Бенджамина, она долго смотрела на шкалу весов. На лице у нее застыло выражение крайнего неудовольствия.
– Сто восемьдесят семь, – неодобрительно бросила она сестре, сидевшей за соседним столиком.
Бенджамин сошел с весов, взял рубашку, брюки и ботинки. И приготовился одеваться, гадая, в какую же именно школу его направят и долго ли ему придется работать там, прежде чем он подыщет себе какое-нибудь более интересное занятие.
– Боюсь, вы нам не подходите, мистер Федров, – сказала женщина-врач.
– Что?! – искренне изумился Бенджамин. Последний раз он болел, когда ему было лет шесть.
– Вы страдаете ожирением, мистер Федров, – сказала врачиха.
– Ожирением… – с совершенно дурацким видом повторил он. И взглянул на свои сильные руки с накачанными мышцами, плоский втянутый живот, длинные и твердые, точно гранит, ноги атлета. Ему двадцать один год, и он может голыми руками разорвать пополам толстую телефонную книгу, пробежать милю менее чем за пять минут, а в последнем бейсбольном матче он первым осилил длиннейшую перебежку до базы, находившейся в трехстах пятидесяти футах от изгороди. – Ожирением… – повторил он. Ему хотелось расплакаться – так ранено и оскорблено было его самолюбие. – Да где вы видите у меня хотя бы унцию лишнего жира?.. – Прошлым летом он работал воспитателем в лагере, и девушки-воспитательницы устроили конкурс на звание мужчины с лучшей фигурой. И все дружно отдали свои голоса ему. И вот теперь эта толстая коротышка в очках, с дурным запахом изо рта и титьками, похожими на два мешка, заявляет, что он страдает ожирением!
– В соответствии с нормой, – заметила женщина-врач, испытывая истинное наслаждение при виде его унижения (она всегда наслаждалась, унижая мужчин, оказавшихся, пусть на самое короткое время, в полной ее власти), – в соответствии с нормой мужчина вашего возраста должен весить сто шестьдесят пять фунтов, и не более того.
– Но я спортсмен, я играю в футбол, – возразил Бенджамин. – Все футболисты отличаются подобным телосложением.
– Вы уже не в колледже, – злобно и резко заметила врачиха. – И тут с вами никто не собирается цацкаться лишь потому, что каждую субботу вы гоняете мяч.
– Но мне позарез нужна эта работа, мэм, – сказал Бенджамин. Депрессия была в разгаре, на каждую свободную в стране вакансию претендовали двадцать человек. И от того, получишь ли ты работу или нет, зависело, умрешь или не умрешь ты с голоду. – Я успешно сдал все экзамены и рассчитывал, что…
– А вот этот экзамен вам сдать не удалось, мистер Федров, – перебила его врачиха. – И нечего тут больше топтаться. Ступайте. Там еще народу полно, целая очередь.
Бенджамин бешено озирался по сторонам, словно пытался найти аргумент, любой аргумент, могущий произвести впечатление на эту несчастную, могущий удержать ее от окончательного, решающего и совершенно катастрофического для него вывода. На глаза ему попался сокурсник по фамилии Леви. Он стоял по другую сторону весов и усмехался. Узкоплечий низкорослый юноша с болезненно-сероватой кожей, сплошь испещренной шрамами от карбункулов. Грудь впалая, коленки резко выпирают, руки и ноги тоненькие как палочки, глаза выпученные и отливают желтизной. И этого мозгляка сочли пригодным для работы, а его, Бенджамина, – нет!.. К тому же Леви был одним из самых тупоголовых в группе – он с трудом сдал письменный экзамен. Бенджамину он никогда не нравился. И еще меньше нравился сейчас и здесь, когда стоял у весов, глупо ухмыляясь и потея всей своей устрично-серой кожей.
– Вот он! – крикнул Бенджамин и невежливо ткнул пальцем в сторону Леви. – Вы его пропустили, это огородное пугало, а меня… меня провалили, так?.. Да чем вы тут только занимаетесь? Как прикажете это понимать?
– Эй ты, – визгливо огрызнулся Леви, – давай полегче! Я-то тут при чем?
– Мистер Леви абсолютно в норме, – злобно огрызнулась женщина-врач. – Следующий!
– Это он-то в норме?!
– Формально да, – ответила врачиха.
– Ну а кто же тогда формально я? – спросил Бенджамин. – Урод, что ли?
– Никто этого не говорил, мистер Федров. – И женщина сделала знак подойти следующему юноше. – Формально вы страдаете ожирением.
– Но ведь должен быть какой-то выход… – пробормотал Бенджамин, чувствуя, как его захлестывают гнев и отчаяние. Он стоял в одних кальсонах и носках, держал в руке одежду и отчаянно боролся за свое право на существование. А пятнадцать или около того других молодых мужчин с усмешкой наблюдали за этой сценой.
– Выход есть. Вам надо сбросить лишние двадцать два фунта, мистер Федров, – ответила врачиха. – И прийти сюда снова, через три месяца.
– Может, еще ногу отрезать? Глядишь, тогда и потеряю двадцать два фунта! – совершенно выйдя из себя, заорал на нее Бенджамин.
– Дело ваше, мистер Федров, – сказала врачиха. – Следующий!
Из больницы он вышел точно в тумане. Ему хотелось орать, ругаться, выкрикивать непристойности, вступить в коммунистическую партию или же найти организацию, борющуюся за отстранение женщин от медицинской практики. Но вместо всего этого он вошел в парк, нашел скамейку, залитую лучами июньского солнца, сел на нее и, обхватив голову руками, начал размышлять о своей погибшей жизни. Семья его уже давно жила с вечно запертыми дверями и отключенным телефоном. Мало того, шторы на окнах были постоянно опущены, чтоб не явились кредиторы. Родители так гордились, что он сдал экзамены и был теперь готов присоединиться к «аристократии» бедного еврейства – миру учителей и ученых, хотя на деле его работа сводилась бы к обучению восьмилетних детишек чтению и письму. А кроме того, к решению арифметических задачек, где неизбежно фигурировали полдюжины груш или надо было подсчитать, сколько стоит десяток апельсинов. Нет, работа учителя считалась в те дни почетной, и все они с нетерпением ждали момента, когда наконец можно будет жить с поднятыми шторами и включенным телефоном.
Бенджамин тихо застонал. Нет, сегодня он не вернется в свой дом, находящийся на осадном положении, безработным. И не важно, что это будет за работа. В кармане лежала газета, «Нью-Йорк таймс». Он достал ее, развернул и нашел раздел объявлений, потом пошел на вокзал и купил билет до Нью-Йорка.
Было уже около восьми вечера, но все еще светло, когда он свернул на узкую улочку, застроенную небольшими домиками с обшарпанной штукатуркой, в одном из которых жила его семья. Видимо, по той же, что и у них, причине многие дома стояли запертыми и выглядели так, точно жильцы давно покинули их. Специально, из предосторожности, он перешел на противоположную от своего дома сторону и все время озирался – что, если вдруг где-то затаился сборщик счетов или контролер, разносящий повестки за неуплату? Затем быстро перебежал через улицу и отпер дверь ключом.
Отец сидел в гостиной, в рубашке с короткими рукавами и босой. Израиль ходил по домам, предлагая разные кухонные приспособления, а это означало, что каждый день он проходил многие мили по разогретым солнцем тротуарам. Вот почему, возвращаясь вечером домой, он первым делом снимал ботинки. На коленях у него лежала вечерняя газета, но электричество в доме отключили еще с месяц назад. И в комнате с опущенными шторами было слишком темно, чтобы читать. А потому он просто сидел в плетеном кресле с высокой спинкой, уставившись на фотографию на стене напротив. На снимке были запечатлены Бенджамин с Луисом на пляже, их возили на море, когда старшему брату исполнилось шесть. Бенджамин вошел в комнату и подумал, что отец сейчас наверняка думает о том же, что и сам он. Как было бы хорошо и здорово, если бы ему, Бенджамину, снова было шесть. Тогда им удалось бы начать жизнь сначала, и она, возможно, повернулась бы совсем иначе.
К этому времени Бенджамин уже научился распознавать по позе отца, удачный ли у того выдался день. Если Израилю удавалось продать товара больше чем на пять долларов, он сидел с высоко поднятой головой. Сегодня он сидел, опустив голову.
Гостиная так и сверкала чистотой – благодаря неусыпным стараниям и трудам Софи Федровой. Неспособная победить Депрессию, изменить экономику страны, отдать долги, выкупить заложенные семейные вещи, Софи Федрова боролась с трудными временами единственным доступным ей способом в стенах собственного дома. Она скребла, чистила, полировала, выбивала пыль, подметала, мыла и неустанно расставляла все по своим местам с точностью до сантиметра. Таким образом она яростно говорила «нет» окружавшему их хаосу, готовому каждый день поглотить их всех.
Комната выглядела как музей. Экспонат «Б»: «Гостиная в доме, принадлежавшая людям нижнего среднего класса. Обставлена мебелью из Гранд-Рапидс[14], circa[15] 1934 годом».
Из кухни доносились звуки – мать готовила ужин. Бенджамин от души надеялся, что вдруг каким-то чудом матери не окажется дома. Но она была дома. Она всегда была дома.
– Привет, па, – сказал Бенджамин.
Отец поднял голову и улыбнулся ему. Стоило отцу посмотреть на своих сыновей секунду или две, и настроение у него тут же улучшалось.
В гостиную вошла миссис Федрова в безупречно белом накрахмаленном фартуке, обхватывающем ее все еще тонкую талию. Бенджамин обнял и поцеловал мать. И задержал ее в объятиях чуть дольше, чем обычно.
– Что у нас сегодня на ужин? – осведомился он, стремясь отсрочить неприятный разговор.
– Ничего особенного. Гамбургеры, – иронично улыбнувшись, ответила мать. – Ну, когда выходишь на работу?
– Завтра, – ответил Бенджамин.
– Прямо завтра? – удивилась мать. – Но ведь летом в школе обычно каникулы.
– Ты лучше сядь, мам, – сказал Бенджамин.
– Я не хочу сидеть, – ответила она. И вся так и сжалась и приготовилась к самому худшему. – Что случилось?
– Я получил работу, – сказал Бенджамин. – Но не в системе школьного образования.
– Что это значит – не в системе образования? Ты ведь сдал экзамены или нет?
– Думал, что сдал, – ответил Бенджамин.
– Что значит «думал»? – резко спросила мать. – Нечего говорить загадками.
– Не прошел медосмотр в Трентоне.
Лицо матери исказилось от волнения. Она схватила сына за руку и заглянула ему в глаза:
– Скажи мне правду! У тебя нашли какое-то опасное заболевание, да? Что?.. Туберкулез? Нелады с сердцем? Что?
– Да ничего страшного, – поспешил успокоить ее Бенджамин. – Я… я страдаю ожирением. Есть, оказывается, такой медицинский термин, «ожирение»…
– Ожирением? – Мать была просто потрясена. – Да они что в этом Трентоне, с ума посходили, что ли? Ты слышал, Израиль? В Трентоне сказали, что твой сын страдает ожирением!
– Правительство… – с отвращением пробормотал Израиль. – Чего хорошего можно ожидать от этого правительства?..
Миссис Федрова отшатнулась от сына и снова испытующе уставилась ему в глаза.
– А ты не шутишь, а, Бенни? Может, это одна из твоих дурацких шуточек?
– Да ничего я не шучу. Так они сказали, этими самыми словами.
– Но ты же у нас сложен как бог! – воскликнула миссис Федрова. – Им бы такую фигуру, как у тебя, этим сумасшедшим из Трентона!
В тот день Бенджамину вовсе не хотелось слышать, что он сложен как бог. Ни от кого, даже от матери. Однако он с трудом подавил улыбку, представив, что было бы, если б, проснувшись, та женщина-врач вдруг обнаружила, что у нее фигура Бенджамина.
– У них есть какая-то там норма, – устало объяснил он. – И, согласно этой самой норме, я вешу на двадцать два фунта больше, чем положено.
– Но ведь ты же спортсмен, футболист! Все футболисты такие. Что же ты им не объяснил?
– Объяснил, – сказал Бенджамин. – Но впечатления это не произвело.
– Футбол… – с горечью пробормотала миссис Федрова. – Понадобилось тебе играть в этот футбол!.. Никогда не слушаешь матери, от этого все твои беды. И вот вам результат, пожалуйста! – Она обернулась к Израилю, тот еще глубже погрузился в кресло. – А ты, ты его поощрял! Все эти годы! Ну что, теперь доволен?