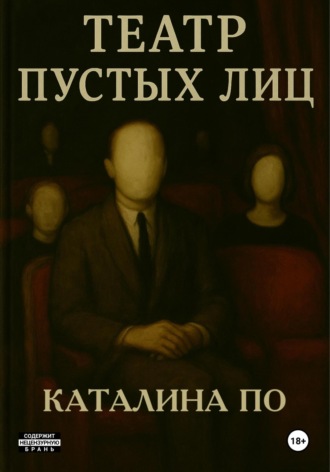
Полная версия
Театр пустых лиц
«Томсон говорил красиво. Точно. Но, кажется, тоже играл. Как все они», – отметил он. Поймал себя: что из услышанного – искренне, а что – тест на прочность?
Он не устал размышлять – понял лишь одно: вечер ещё не прочитан до конца. Уходить рано. Он обвёл взглядом зал, где лица, факты, интонации сплетались в тончайшую ткань чего-то большего. И решил взять паузу. Сменить воздух. Темп. Пространство. Может, и этот вечер сам смотрит на меня, проверяя, выдержу ли я ритм.
Он отошёл. Воздуха хотелось другого. В боковом коридоре было тише, бра мерцали глуше. Откуда-то впереди – голоса: один мужской, с сухим нажимом; другой – женский, сорванный тревогой.
Женщина, взволнованно, вполголоса:
– Она здесь. Опять. Почему меня не предупредили?
Мужчина, ровно, сдержанно:
– Спокойно. Совпадение. Держи себя.
Ротшильд остановился на полшага – из резонанса. «Совпадение» прозвучало так, как попытка внедрить внутрь реальность. Совпадений не бывает. Бывают только слова, которые выдают больше, чем хотят. В этот момент рядом щёлкнул штопор – кто-то открыл бутылку. Щелчок резанул ощущение. Он не стал слушать дальше. Вернулся в зал, но уже с ощущением надтрещины.
Теперь он стоял у колонны, в тени. Здесь запахи были мягче, свет – тусклей. Звуки – отчётливее. Где-то рядом пахло гарью свечи, которую только что задул сквозняк. Огонь быстро исчезает, если не держать его руками. Зал гудел: кто-то сдерживал смешок, кто-то охотно искал остроумия подешевле. Чиновник ещё пытался блистать, но повторялся. Тишину разрезал ровный женский голос – поставленный, холодный:
– Господа, в нашей стране всегда любили разводить костры из чужой неловкости. Теперь, кажется, к ним подливают шампанское.
Жемчужная женщина вышла вперёд – как на сцену. Взглядом, к которому привыкли подчиняться, она оглядела круг. Она поправила браслет, словно настраивала внимание зала так же, как ювелирный замок.
– Скажите, на каком этапе вечера мы решили мерить ценность человека по туфлям, фамилии или количеству визиток?
Чиновник шумно втянул воздух – и потерял слова. Она перевела взгляд – и задержала на Ротшильде:
– Вы наблюдали. Почти не говорили. Может, скажете вслух?
Он сделал шаг. Вот оно – испытание. Молчать проще. Но иногда молчание – трусость.
– Проблема не у входа – сказал он спокойно. – Она внутри. Когда кто-то решает, что зал – его собственность. Мы привыкаем к декорациям. Забываем: живое – не в золоте, а в взгляде человека, впервые оказавшегося среди позолоты. Если ему неуютно – не всегда потому, что он «не вписался». Иногда – потому, что пространство пустое.
Он повернулся к женщине:
– Молчание – не согласие. Часто – терпение.
Она кивнула – коротко, как равному.
Он попросил прощения у хозяйки вечера и вышел на воздух.
Пауза в зале стала другой – не скованной, а осмысленной. Он уже собирался уйти, когда рядом возник голос – молодой, чуть дрожащий:
– Простите… вы ведь Ротшильд?
Парень держался прямо, пиджак сидел новенько, на рукаве торчала нитка от бирки, которую забыли снять. Речь спотыкалась о паузы, но в этом была честность. Как же узнаваемо – эта неуклюжесть начала. Я тоже когда-то держал книги так, будто они тяжелее меня самого.
– Я читаю то, что вы выпускаете. Оно… честно. Я тоже хочу сделать что-то, что будет иметь значение. Чтобы не просто быть.
– Понимаю, – ответил он тише обычного.
– И это того стоит? – почти шёпотом.
Ротшильд на мгновение отвёл взгляд – туда, где свет в зеркалах начинал тускнеть.
– Главное – не перепутать, что ты хочешь, с тем, за что тебе аплодируют.
Слова прозвучали тише, чем шум зала, но юноша услышал их так, будто они сказаны были только для него.
Он кивнул. «Спасибо», – сказал уже без дрожи.
Ротшильд пошёл к выходу. Он не обернулся. Но, у боковой двери, уловил знакомый, взвинченный тембр женского голоса – тот самый, из коридора. И понял: вечер только кажется завершённым. В холле он задержался на секунду. Он взял пальто и вышел.
На улице воздух был проще. Он вдохнул глубже. Здесь пахло мокрым асфальтом и табаком – запахи, которые не умели лгать. Воздух холодил горло, но жжение, возвращало к себе. Здесь хотя бы нет декораций.
Le décor n’est pas la pièce, 23– мелькнуло.
Вечер оставил послевкусие тянущиеся дольше самого сбора. Он не возвращался к нему намеренно и всё же обрывки фраз, взгляды, снова и снова всплывали в памяти. Теперь кабинет. Его территория. Здесь всё звучало иначе: щелчок часов, шелест бумаги, ровное дыхание пространства, не требующего масок. Он сидел у стола, ждал чего-то, сам не зная, чего. Стол, бумаги, чашка – всё на местах. Кроме него. Опять этот диссонанс: всё на местах, кроме меня. Вечер всё ещё был с ним. Не как событие, а как вопрос, на который он ещё не нашёл ответа.
В его кабинете царила тишина – живая. Как и сам Ротшильд, комната дышала мыслью. Оформление – строгое, но не тяжёлое. Массивный ореховый стол стоял у окна; утренний свет скользил по его поверхности, высвечивая стопки бумаг, перо, чашку недопитого кофе. На блюдце застыло тёмное кольцо от капли, которую он так и не вытер. На полу – глубокий, чуть вытертый ковёр. На стене – абстрактное полотно, где среди серых всплесков жил один-единственный ярко-оранжевый мазок. Контраст. Намёк. Мысль.
Он листал рукопись, не торопясь. Глаза скользили по строкам, а внимание – ускользало. Всё написано правильно безупречно. Но в тексте не было пульса. Ни удара. Ни спазма.
Пальцы остановились на середине страницы. «Если я действительно понимаю, как устроен мир, что я обязан делать с этим знанием?»
Он не знал, что именно задело его в этой фразе. Внутри – тихий зал заседаний. Ни обвинителя, ни защиты. Только молоточек тишины. Прямота? Безысходность? Мысль зацепилась, как заноза, и не отпускала. А если я понимаю, но ничего не делаю – значит, я соучастник?
Мысль не сложилась. Он отложил рукопись, подошёл к окну. За стеклом мир жил своей жизнью – машины, прохожие; кто-то спешил, кто-то шёл медленно. Выше – только серое небо. Ни «да», ни «нет». Ni oui ni non24. На стекле лениво стекала капля, оставляя мутный след, словно сама не знала, куда ей течь.
В дверь постучали. Он не обернулся.
– Да?
– Ротшильд, извините. Из типографии. Вопросы по формату. Переключить? Он медленно кивнул:
– Нет. Пусть решает Элин. Я уже дал всё, что мог.
Секретарша кивнула и ушла. Он остался наедине с мыслью, которую сам же и сформулировал: «Счастье и сила – не контроль, а способность принимать».
Он вернулся к столу, закрыл книгу. In mente: accipere. 25 Бумага ещё хранила тепло света.
– Забронируй мне столик в «Восходе» – сказал он, выходя в приёмную. – На вечер. Один.
Секретарша чуть удивилась, но промолчала. Она знала: его просьба об одиночестве всегда значила одно – работа. Только не над текстом, а над собой. Он вышел из кабинета в том же ритме, как обычно закрывал последний разворот: без спешки, с коротким остаточным дыханием, в котором ещё звучал прошедший день. На прощание кивнул; не поднимая глаз от монитора, она сказала:
– Столик в «Восходе» забронирован. Как всегда – у окна. Он едва заметно кивнул.
В приёмной, на полпути к выходу, его настиг шагами Леонид – сухой, быстроватый, с лёгкой долей драматизма в каждом жесте. Пара реплик – сразу к делу, без «как вы»:
– Я всё же считаю – сказал Леонид, – рукопись не держит даже второстепенную линейку.
– Возможно, – отозвался Ротшильд. – Но иногда ценность текста не в качестве, а в интонации. Леонид коротко хмыкнул. Согласие не требовалось – и никто его не ждал.
Он сел в машину, кивнул водителю:
– Сегодня без музыки, пожалуйста. Музыка слишком часто подсовывает готовые чувства. Сегодня нужны только мои.
Водитель коротко кивнул, украдкой зевнул и посмотрел на негов зеркало. Автомобиль мягко тронулся. Москва в этот час была неспешной. Осень ещё не взяла власть, но уже стояла у порога – воздух плотный, словно налитый светом. Деревья – в выцветающем золоте; фасады – в старинном молоке и светлом кирпиче. Таксист у обочины ругался в телефон, подросток пронёсся на самокате, едва не зацепив прохожего.
С Пресни свернули на Садовое; город поплыл мимо: готические башенки старых домов, отреставрированные особняки – теперь там галереи, лофты, офисы и тишина пустых окон. Вдали – шпили высоток, ближе – балконы с вывесками антикварных лавок.
Он смотрел без цели. Мысли не выскакивали, чувства не выпирали – одно лишь прозрачное присутствие. Люди шли медленно: женщина с тёмно-синим шарфом, ребёнок с шаром, мужчина в плаще и берете. Будто вечная Москва шла покадрово только для него. Странно… все эти люди просто идут. Не объясняют себе зачем. Может, в этом и есть настоящая свобода?
Ум успокаивался, тело отпускало. Город как говорил: «Пока можешь просто быть».
На тихой набережной вечер лёг на здания длинными тенями. Впереди, у воды, под стеклянной крышей зажигались лампы «Восхода». Он позволил себе едва заметную улыбку.
«Восход» встречал не шумом, а настроением – полумрак, мягкий свет, золотистые акценты, сквозные отражения стекла и города. Всё здесь словно говорило: «Ты внутри, но снаружи не исчезло». Панорама открывала закатную реку, где огни медленно рассыпались по воде.
Внутри было просторно, но негромко. Медные светильники, похожие на планетарные орбиты, гладкие скатерти, кристаллические бокалы – детали другой, почти театральной жизни. Он прошёл к своему окну. Меню не предлагали: знали, что он приходит сюда не за едой. Официант по привычке принёс бокал белого – лёгкое, минеральное. Он поставил бокал чуть ближе к краю стола, чем нужно, и тут же поправил – почти незаметным движением. Это я чуть ближе к краю, чем нужно.
В стекле – два города: dehors et dedans.26 За соседним столиком кто-то рассмеялся – коротко, слишком громко для этого зала, и смех сразу погас, будто его затёрли бокалами. Ротшильд смотрел не на бокал. На город, реку, отражения в стекле. Всё смешивалось: улицы, небо, стекло – и он где-то в этой двойной перспективе.
Он заказал красного – и ничего к нему. Контраст был намеренным. Сидел. Не думал – чувствовал остатки мыслей, как эхо слишком длинного разговора. Казалось, вечер в усадьбе остался в прошлом, но нет. Он всё ещё жил в нём, как в комнате без видимого выхода.
Вспомнил Царицыно – помпезно, стильно, реплики натянуты до нужной глубины. И ту молодую женщину с идеальной укладкой и румянцем, что говорила о Достоевском, а каждую фразу гасила извиняющимся «простите». Это «простите» било сильнее любой грубости. Он заметил, как официант, проходя мимо, чуть задел плечом её стул – и она извинилась первой, хотя не в чем было. Она была не глупа – её научили прятать ум. Инстинкт. Глубинный.
Глоток. Тёплая терпкость.
И ещё момент – короткий, не в центре, в тени витража. Он повернул голову – и увидел её. Взгляд без вызова, без кокетства, без демонстрации. Одно лишь внимание. Тихое, точное. Будто слушала не ушами – чем-то глубже. Он запомнил этот взгляд – единственный живой, в зале, полном голосов.
И как это обычно бывает – кто-то встал рядом. Он поднял взгляд. Где-то за спиной мягко щёлкнула дверь.
Она возникла не как случайность, а как продолжение незаконченной мысли.
Марсела стояла чуть в стороне, не выпрямляясь, не ловя внимания. Смотрела прямо на него – без улыбки, без напряжения. Узнавание. Настоящее, тихое: будто история уже была, и её просто продолжили.
– Я даже не удивлён – сказал он. – Просто вы здесь.
Она едва кивнула. Ни оправданий, ни предисловий. Реплики звучали не как начало, а как продолжение. Она села напротив, не спрашивая. Он не возразил.
– Редко вижу здесь людей одних – сказала она. – Сюда приходят, чтобы быть увиденными…А вы – чтобы исчезнуть.
Исчезнуть проще, чем остаться видимым. Он усмехнулся – негромко, как человеку, которого поймали на правде. – Здесь странная акустика. Мысли звучат громче голосов. Ici, les pensées portent plus loin27
Пауза – та, которую заполнять не нужно.
Она глянула в окно, на реку, на сползающее небо.
– Я вас вспомнила. На днях. Вы были в книжном. На Моховой. Стояли у полки с поэзией. Продавец сказал: «Мужчина, который выбирает Ахматову так, словно решает судьбу».
Он отвёл взгляд, улыбнулся больше себе, чем ей. Значит, и тогда кто-то видел – а я думал, был невидимкой.
– Я не выбирал. Просто не мог пройти мимо. Как и сегодня.
Ещё одна пауза – в ней больше доверия, чем в десятке фраз. Он почти незаметно кивнул официанту: пусть вечер идёт.
– Забавно, – тихо сказала она, – как редко случаются диалоги, в которых никто ничего не ждёт.
No agenda, no alibi 28– вот почему дышится подумал он.
– Потому что здесь диалоги – с прицелом: контакта, выгоды, статуса. А этот… просто случился. Как тишина, которая внезапно стала понятной.
Она улыбнулась едва заметно.
Он добавил почти шёпотом:
– Иногда самое важное – то, что остаётся между словами. С
– Вы когда-нибудь чувствовали – спросила Марсела, – что знаете человека до того, как он заговорит?
Он помолчал.
– Иногда. Но стараюсь не верить таким чувствам. Они пугают.
– А я – наоборот. Только им и верю.
Смело. Я бы не выдержал такой честности.
– Почему?
– Потому что всё остальное можно подделать: манеру, стиль, голос, даже вкус. А узнавание – либо есть, либо нет.
По реке медленно плыла баржа. На борту кто-то курил, огонёк сигареты то исчезал, ты вспыхивал снова.
– У меня нет привычки делиться – сказала она. – Но с вами не хочется молчать. И не потому, что нужно что-то сказать. Он улыбнулся слегка – не как мужчина, слышащий комплимент, а как человек, которого согрели тем, что чувствуют похоже.
– Я не умею жить так – сказала Марсела.
– Чувствовать одно, делать другое, говорить третье.
– Я тоже, – ответил он. – И не буду объяснять это тем, кто может.
Настоящее – в паузе. Когда не объясняешь, не защищаешься. Просто есть. Она поправила выбившуюся прядь – так же просто, как если бы речь не шла о вечности. Он говорил – и слышал в ответ не эхо, а пустоту.
Ротшильд наклонился ближе, стараясь удержать эти слова. Но потерял ощущение времени – разговор ускользал. Воздух стал гуще, как будто стены внутри подвинулись ближе. Он провёл рукой по виску, ощутив холодную влагу кожи.
– Бывают редкие вечера, когда собеседника выбираешь не ты – вас выбирает тишина. Пауза. – Думаю, это один из них.
Он услышал, как у окна дышит стекло, и как она почти незаметно втянула плечи. Снял шарф и положил на спинку её стула.
– Тебе не холодно? – тихо.
Не жест владения – факт присутствия.
Она долго смотрела ему в глаза – без просьбы, без ответа. Просто – видела. – Спасибо, – сказала она.
Он не ответил. Лишь сдвинул к ней второй бокал – красное, терпкое. Пальцы не коснулись. Между ними – движение.
Она отпила – символически.
– Красное. Вы не просто так его заказали?
– Как и вы – не просто так подошли.
Он говорил спокойно, мягко. Подтекст – не игра: среда обитания.
– Вас пугают совпадения?
– Нет. Лишь их необходимость. Полушепотом «Hasard? Non – nécessiét29»
Она откинулась на спинку стула:
– Иногда без совпадения не сойти с ума.
Опять тишина – без напряжения, но с выбором.
Ночь окончательно взяла город. Огни отражались в воде – чуть нереальные. За окнами гудела Москва, но здесь всё как в капсуле.
Со стороны кухни выкатили тележку – гулкая вибрация прошла по полу и растворилась.
Он перевёл взгляд на неё:
– Этот вечер был бы другим без вас.
– Он всё равно был бы. – Пауза. – Но я рада, что именно таким.
Он хотел что-то добавить – и не стал. Иногда правильные слова портят тишину.
Он поднялся:
– Я пойду.
Марсела тоже встала:
– Не буду спрашивать, почему.
– И правильно. – Пауза. – Спасибо, что были по-настоящему.
Он расплатился, кивнул официанту – на этот раз прощально. Надел пальто без спешки. Она осталась сидеть – в той же позе, в той же тишине.
И когда он уже дошёл до выхода, она сказала тихо:
– Не обещайте, что мы ещё увидимся. Просто… если это будет – пусть будет.
Он не обернулся. А внутри его прозвучало Advienne que pourra 30
Но шаг замедлил. И в этом – был ответ. Дверь закрылась за ним без звука. Не третий колокол. Третий ещё впереди.
Он вошёл в квартиру, всё ещё неся в себе тёплое эхо недавней встречи. В прихожей тихо тикали часы – звук казался громче обычного. Квартира встретила его привычной полутьмой. Он не спешил включать свет – шёл медленно, позволяя вдохновению звучать чуть дольше. Прошёл в кухню, налил себе воды. Глотал неторопливо, ощущая, как мысль – всё ещё тёплая, свежая – струится сквозь него.
Он был спокоен. Редко в жизни бывали вечера, когда он не чувствовал тревоги – и вот один из них. Он прошёл в коридор. Потянулся, собираясь включить свет в кабинете.
Но он уже был включён. Где-то щёлкнуло реле, и под лопатками прошёл холодок – короткий, как укол. Ноги словно на миг приросли к полу. Он замер. Ладонь сама нашла стену, нужно опереться. Если ошибаюсь – смешно. Если нет – поздно. Внутри – диссонанс. Он точно уходил в темноте. Вдохновение отступило. Осталось странное чувство: как будто в комнате кто-то только что стоял. И лишь что-то в воздухе – еле заметное, пульсирующее – выдавало его отсутствие.
Он вошёл. На мониторе мигало окно. Новое сообщение. Без имени. Без темы. Отправитель – M.N. Он медленно сел. Щёлкнул.
«Мы знали, что вы откликнетесь. Вы слишком точно различаете отражение и лицо. Не ищите автора – его нет. Осталось одно. Сделайте выбор. Quod eligis – te format31.»
Текст был коротким. Идеально выверенным. И именно это насторожило сильнее всего. Опять они хотят, чтобы я поверил в выбор. А если настоящего выбора никогда и не было? Он перечитал ещё раз. А потом – снова. И в третий. Каждое слово – как стук в виски. Каждая пауза между строк – как чьё-то дыхание.
Во второй раз текст прочёлся иначе, чужое «мы» сместилось, превращаясь в тихое «я»: «Я знал. Ты смотришь в меня. Не ищи меня. Сделай.» И совсем неслышно, между строк: не слышишь себя.
Кто «мы»? Что значит «зеркало»? Какой выбор? И почему он ощущает, что письмо не просто попало в цель – оно его ждало?
Он поднялся, отошёл к окну, чтобы выдохнуть. На улице – спокойствие. Свет фонарей. Умиротворённые силуэты. Но в нём самом – началась дрожь. Нерезкая. Глубинная. Почти животная. В его реальности появилась щель. И сквозь неё кто-то начал заглядывать.
Он вернулся к ноутбуку. Проверил всё, что мог – заголовки, метаданные. Чисто. Слишком чисто. Déjà lu 32– уже читанное. На языке – металлический привкус.
Письмо пришло ещё днём. Пока он сидел в «Восходе». Пока Марсела смотрела на него так, будто знала. Он закрыл глаза. Снова открыл. И резко выключил экран. На чёрном стекле на секунду всплыло его отражение – как в плохом зеркале: знакомое лицо, но взгляд – чужой.
Хватит.
Ночной Арбат был почти пуст. Не та витринная полоса, а боковая улица, где неон аптеки шевелит лужи, пахнет спиртом и мокрым картоном. Он вышел за водой. Понял, что остановился, только когда услышал собственное дыхание.
Взгляд сам проверял окна, зеркальные двери, витрины. Паранойя съедала запас тишины, как батарею в фоне. Тело реагировало быстрее головы. Плечи поднимались, прежде чем возникала мысль «опасность». Живот каменел. Челюсть сжималась. The body remembers first33, мелькнуло почти без слов.
У входа в аптеку стоял мужчина с прозрачным пакетом. Внутри болталась дешёвая настойка, пластырь, одноразовый шприц. Куртка без молнии, рукава вытянуты. Кожа серовато-жёлтая, как бумага, что слишком долго лежала на солнце. Люминесцентные лампы над головой потрескивали, делая кожу ещё бледнее. На шее, ближе к уху, белёсая узкая полоска. Тот самый геометрически точный след, который забыть трудно, если видел его однажды. Нет. Только не он. Или все они теперь с этим следом? Осталась скорость падения, как в лифте, который вдруг провалился на пол этажа.
Он пересчитывал монеты. Пальцы дрожали не от холода. Пытался поймать взгляд кассира, но кассир смотрел мимо. Лента на запястье выглядывала из рукава, уже не больничная. Просто память кожи. Как шрам от браслета, который сняли, а след живёт отдельно.
Ротшильд сделал шаг. Запах дешёвого спирта резал нос сильнее, чем холод с улицы. Ещё полшага, и придётся назвать вещи. Он поймал движение руки к кошельку. Остановил его. Рука вернулась в карман, там холоднее и безопаснее.
В голове поднялась пустая, слишком чистая фраза: Do no harm34. Сейчас она звучала не как этика. Как тонкое оправдание. Во рту появился металлический привкус. В груди стало тесно не из жалости. Из понимания, что прошлое не тонет. Оно умеет всплывать в самой яркой подсветке, под аптечным люминесцентным светом.
Мужчина поднял глаза. Взгляд скользнул по нему и не зацепился. Ни узнавания. Ни просьбы. Пустота без упрёка. Пустота, в которой нет роли для спасателя. Он перевёл взгляд на витрину. Валериана. Антисептик. Бинт. Слова складывались без смысла.
Он не подошёл. Не помог. Не спросил имени. Шаг, который так и не сделал, остался внутри тяжёлым, тело заполнило пустоту вместо движения. Вошёл в аптеку, купил воду, расплатился, вышел и прошёл мимо. Шаги были ровными, как по метроному. У угла остановился, вспомнил, что надо вдохнуть. Окно ночного такси было приоткрыто, холод бил в горло. Je te vois35, сказал он про себя и испугался этой мысли. Видеть иногда больнее, чем спасать.
Дома он долго мыл руки. Запястья, ладони, между пальцами. И всё равно казалось, что кожа хранит чужой след. Зеркало молчало. Он вытер руки насухо, сел к столу, открыл блокнот. Написал одну строку и закрыл. We keep what we do not face36. Слабость – когда врёшь себе, что не видел. Погасил свет и посидел в темноте, как в зале без сцены, где публика ушла, а кресла ещё держат тепло.
Утром он скажет себе, что ничего не изменилось. Этот звук останется, даже когда музыка снова начнёт играть. Паранойя отступит на шаг, но будет идти рядом. Как тень. Как напоминание, что тело помнит маршрут быстрее памяти.
В спальне он лёг, не раздеваясь. Не включая свет. Но тишина уже не принадлежала ему. И ночь – тоже. Когда сон наконец пришёл, он был не отдыхом, а ответом. Ответом на вопрос, который он ещё даже не успел задать. Уснул он быстро, почти неловко – как человек, уставший не телом, а вниманием.
Но ночь покоя не принесла. Сон пришёл без дверей – точнее, с щелчком замка, за которым сразу не оказалось проёма. Он просто оказался на мосту. Никакой Москвы – чистая геометрия: металл, вода, пустота. Под ним – чёрная, густая река; поверхность глянцевая, как выключенный экран.
В воде – отражение. Сначала привычное лицо. Затем – другое: исчерпанный взгляд, кожа тусклее. Потом слишком юное, с горячей жесткостью в челюсти. Все – он. И ни одно – не он.
Он сделал шаг и мост сузился на ладонь. Ступни поехали. Раньше этот сон заканчивался падением.
На холодных перилах – две короткие белёсые полосы, как дорожки соли, смешанной со снегом. Металлический привкус во рту. Стыд без имени.
На дальнем конце появилась она. Не имя – присутствие. Марсела, как тень в стекле: угадывается линиями, дрожит дождём, и всё равно узнаётся. Она не шла. Смотрела прямо. Между ними натягивался воздух.
Он попытался позвать – голос не вышел. И тогда за спиной сказал голос. Никакого тела. Только тембр, без источника.
– Ты хочешь понять?
Он обернулся – никого. Мост под ним дрогнул, как тетива. Вода поднялась – сначала по подошвы, затем до щиколоток. Из темноты, на уровне груди, вспыхнули три точки «…» – как индикатор печати. Затем строка, без автора:
– Вы ищете не ответ. Вы ищете разрешение себе начать.
Слова не прозвучали – напечатались в воздухе и растворились. Курсор мигал нетерпеливо, словно палец стучал по столу. Чужой голос продолжил, уже ближе:
– Ты всё ещё не слышишь себя. Commence, puis tu comprendras37. Я слышу. Просто боюсь признать, что это – мой голос. Шаг – потом смысл.
Вода коснулась коленей и стала холоднее. Он вздрогнул от резкой стужи – тело реагировало быстрее мысли. Под плёнкой всплыло тело – в профиль. Его пиджак, его часы на запястье. Лицо – другое. Пустые глаза, как срезанные. Рядом по дну, как по стеклу, прокатился пузырёк воздуха и лопнул щелчком, точно таким же, как закрывается дверь. Он вздрогнул.


