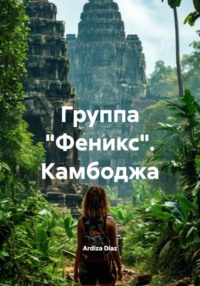Полная версия
Шепот Эммерии
Ее дар, который она поначалу считала проклятием, а затем – потенциальным спасением, стал в ее глазах лишь зеркалом, отражающим уродство человеческой натуры. Она видела не только их будущее, но и их истинные мотивы, скрытые глубоко за масками добродетели. Корысть, зависть, малодушие, похоть, глупость – все эти пороки, словно нити, тянулись к каждому их поступку, к каждому решению, к каждому слову. Она видела, как один крестьянин, попросивший у нее совета, как найти потерянную корову, на самом деле хотел знать, как обмануть соседа и забрать его пастбище. Другая женщина, пришедшая с просьбой о здоровье для мужа, втайне надеялась на его скорую смерть, чтобы получить наследство. Астра видела это, чувствовала это каждой клеточкой своего существа, и это знание обжигало ее, оставляя горький привкус во рту.
– Они все одинаковые, – однажды прошептала она отцу, Торину, когда тот попытался уговорить ее принять очередного просителя. – Они видят только себя, свои выгоды. Мои слова для них – лишь пустой звук. Они не меняются.
Торин тяжело вздохнул, его лицо было измождено. Он видел, как меняется его дочь, как угасает в ней детская непосредственность, уступая место холодной отстраненности. Он не мог понять всей глубины ее видений, но чувствовал, что что-то ломается в ее душе. Астра больше не играла с Ренном. Она даже избегала его. Ренн, ее единственный друг, приходил к их хижине, но Астра лишь молча отворачивалась, ее глаза были пусты. Он не мог понять, почему она стала такой, и его детское сердце сжималось от обиды и непонимания.
– Но, доченька, они же… наши люди, – мягко начал он, но Астра прервала его, ее голос был пронизан горечью.
– «Наши люди»? – усмехнулась она. – Они готовы пройти по головам друг друга ради лишнего мешка зерна. Они готовы лгать, обманывать, предавать. Я вижу их до конца, отец. И я вижу, что они недостойны даже моего взгляда. Мой дар, который должен был бы стать благословением, лишь открыл мне глаза на их ничтожность.
Эта фраза, сказанная с такой холодной уверенностью, поразила Торина. Он увидел в ее глазах что-то новое, чуждое – смесь презрения и высокомерия. Гордыня, тонкой пеленой, начала окутывать душу Астры, словно защитная оболочка от боли, которую ей приносило знание. Она видела себя выше них, избранной, наделенной знанием, которое было недоступно этим «слепым» людям. Ее дар, ставший бременем, теперь превращался в инструмент ее собственной изоляции, ее собственного превосходства.
Она перестала видеть в каждом просителе отдельную судьбу. Теперь они были для нее лишь частью серой, однородной массы, движимой низменными инстинктами. Их мольбы, их слезы, их страхи – все это стало фоновым шумом, который лишь раздражал ее. Она чувствовала себя узницей в своей собственной голове, вынужденной смотреть на этот бесконечный парад человеческих пороков. Зачем помогать тем, кто сам не желает себе помочь? Зачем исцелять тех, кто сам себя разрушает?
– Иди, мать, – сказала Астра женщине, что просила о больном сыне. – Иди и прими то, что должно быть. Твой сын… он найдет покой. А ты… ты выживешь. Как и все остальные. Всегда выживают. А потом снова совершают те же ошибки. Это их путь. И я не могу его изменить.
Ее слова были отрывистыми, лишенными какого-либо сочувствия. Мать мальчика, опустив голову, медленно покинула хижину, ее плечи дрожали от невыплаканного горя и непонимания. За ней последовала другая женщина, которая пришла спросить о судьбе своего мужа, ушедшего на заработки. Астра, не глядя на нее, лишь коротко произнесла: «Вернется. Спустя годы. И будет пить». Женщина всхлипнула, но не посмела спорить. Отстраненность Астры была почти осязаемой. Она даже не пыталась скрыть своего растущего отвращения к человеческой слабости.
Эйлин, ее мать, пыталась поговорить с ней, вернуть прежнюю, добрую Астру. Но каждая попытка разбивалась о стену равнодушия. Ее дочь, казалось, превратилась в камень, холодный и непробиваемый. «Ты стала такой жестокой», – говорила Эйлин, и ее голос дрожал от слез. Астра лишь пожимала плечами, в ее глазах вспыхивал огонек презрения. Она считала, что ее мать просто не способна понять ее «ношу», не способна увидеть мир таким, каким видела его она. Ее родители, когда-то бывшие для нее опорой, теперь казались ей наивными и слепыми. Она чувствовала себя умнее, сильнее их, ибо обладала знанием, которое было им недоступно. И это знание, как ей казалось, давало ей право судить. Право презирать.
Теперь, когда к их хижине приходили люди, Астра редко подходила к ним. Она сидела у окна, глядя на просителей с равнодушным видом, а иногда, если они слишком настойчиво стучались, просто говорила через закрытую дверь, бросая короткие, резкие фразы, которые были похожи на приговоры. «Засуха», «болезнь», «предательство». Ее слова, хотя и точные, не несли в себе утешения, лишь констатацию неизбежного. Они приходили за надеждой, а получали лишь холодное напоминание о своей собственной беспомощности. Некоторые уходили в слезах, другие – в гневе, но все знали, что Астра видит правду, пусть эта правда и была горькой.
Внутри Астры зарождалась глубокая уверенность в своей правоте. Она была уверена, что человечество безнадежно, что оно обречено на бесконечный цикл страданий и ошибок. Ее дар, показывая ей мельчайшие детали чужих жизней, лишь укреплял это убеждение. Она видела, как одни и те же пороки повторяются из поколения в поколение, как люди, несмотря на все уроки, снова и снова ступают на одни и те же грабли. Эта гордыня, это высокомерие по отношению к своим собратьям, становилось ее новой защитой, стеной, за которой она пряталась от мира, который казался ей недостойным. Она ждала. Ждала чего-то великого, что действительно стоило бы ее внимания, ее усилий. Мелкие, эгоистичные проблемы этих людей больше не трогали ее. Она была готова к чему-то большему, к тому, что могло бы подтвердить ее исключительность, ее предназначение. Она была Дитя Богов. А они… всего лишь люди. Она была уверена, что ее ждет нечто большее, чем предсказывать, где чей гусь потерялся. Ее дар был слишком ценен для этого. Она ждала момента, когда ее истинная роль, ее настоящая сила будут востребованы. А пока… она просто наблюдала, как мир вокруг нее медленно сгорает в огне собственных пороков, и чувствовала лишь холодное, отстраненное удовлетворение от того, что она одна это видит.
Глава 6
Первые два года жизни Демиана пролетели под неусыпным надзором короля Корвуса, который превратил его детство в бесконечную тренировку. Младенец рос не в тепле материнской любви, а в атмосфере строжайшей дисциплины, где каждый вздох, каждый крик малыша был отмечен и проанализирован. В покоях, где полы были застланы толстыми коврами, чтобы заглушать шаги, а стены украшали не картины, а карты будущих завоеваний, Дамиан слышал лишь отрывки разговоров о битвах, стратегиях и неумолимой силе. Король часто приходил к колыбели, его взгляд был холоден и целенаправлен, словно он видел не невинного младенца, а готовое оружие, ждущее лишь отточки. Он наклонялся над сыном, и его слова, произнесенные низким, властным голосом, были первыми, что Дамиан усвоил: слова о долге, о силе, о судьбе. Он не осознавал смысла, но чувствовал напряжение, исходящее от отца, чувствовал, что от него ждут чего-то великого, чего-то, что требовало преодоления любой мягкости. Атмосфера вокруг младенца была наэлектризована амбициями отца, и даже воздух, казалось, вибрировал от невысказанных ожиданий. Корвус, одержимый идеей абсолютного контроля, верил, что сможет сформировать из сына идеального воина, способного покорить любой народ, разрушить любую империю. Он не сомневался в своей способности управлять даже божественным даром, который проявился в его наследнике, видя в нем лишь инструмент для достижения своей грандиозной цели. Его присутствие в покоях Дамиана было постоянным, ощутимым, и ребенок, сам того не зная, с самого рождения впитывал в себя эту философию безжалостной мощи.
Король Корвус, склоняясь над колыбелью, шептал сыну о величии, о славе, о долге перед троном, словно вбивая эти понятия в его подсознание с молоком матери, которого Дамиан был лишен. Он говорил о том, что настоящая сила – это бесстрашие, что только беспрекословное подчинение его воле сделает Дамиана достойным наследником. «Ты должен быть сильным, сын, – повторял Корвус, его голос был низким, почти гипнотическим. – Безжалостным. Только тогда ты сможешь оправдать мои надежды. Надежды трона. Ты – мое продолжение, моя воля. Ты – будущее этой империи. Ты должен быть лучшим. Самым сильным». Эти слова, эти вибрации властного голоса, проникали глубоко в сознание мальчика, формируя его мировоззрение. Дамиан рос, окруженный символами власти, доспехами, военными знаменами, которые Корвус приказывал размещать в детской, чтобы сын привыкал к ним с самого раннего возраста. Король лично показывал ему карты, объяснял тактику, рассказывал истории о великих завоевателях, намекая на то, что Дамиан должен превзойти их всех. Каждый вздох Дамиана, каждый его шаг должен был служить одной цели – укреплению власти Корвуса и расширению его империи. Мальчик не знал другого мира, кроме того, который был создан для него отцом, мира, где доминировали сила и завоевание. Он чувствовал тяжесть этой ответственности, ощущал, что его существование целиком подчинено чужой воле, и что от него ожидают полной отдачи, без малейших проявлений слабости. В его еще неокрепшем сознании зарождалось понимание того, что его единственная ценность – это его способность быть инструментом в руках отца. Он не смел показывать страх или неуверенность, ведь это было бы предательством ожиданий короля. С самого детства Дамиан учился скрывать свои истинные чувства, пряча их глубоко внутри, под маской послушания и решимости. Он хотел заслужить одобрение отца, получить ту крохотную долю признания, которая иногда проскальзывала в его глазах, когда Дамиан демонстрировал успехи в учении или тренировках.
Но был в жизни Дамиана и иной голос, иной свет – голос его няни, старой Лады. Эта пожилая женщина, с добрыми, изборожденными морщинами глазами и теплыми, ласковыми руками, была единственным источником истинной любви и сострадания в его холодной и жесткой жизни. Она тайно, в минуты, когда король Корвус был занят или когда стража отвлекалась, баловала мальчика, позволяя ему быть просто ребенком. Она шептала ему сказки о далеких странах, где люди жили в мире и гармонии, о героях, которые боролись за справедливость, а не за власть. Лада рассказывала о доброте, о милосердии, о сострадании, пытаясь посеять в его юной душе зерна человечности, которые могли бы прорасти, несмотря на суровую почву отцовского воспитания. Она учила его, что истинная сила – это не способность разрушать, а способность созидать, защищать слабых. Ее слова были тихим протестом против всего, что внушал ему король. Няня обнимала его крепко, прижимая к своей груди, и Дамиан, чувствуя ее тепло и нежность, ощущал себя в безопасности, чувствовал, что его любят не за его потенциальную мощь, а просто так, потому что он есть. Эти моменты были для него глотком свежего воздуха, спасением от удушающей атмосферы королевского двора, где царили только амбиции и расчет. Лада видела в нем не орудие, а живую душу, и всеми силами старалась сохранить эту душу от очерствения. Она понимала, какой тяжелый крест несет этот мальчик, и стремилась облегчить его бремя, хотя бы на короткое время, даря ему те простые радости и тепло, которых был лишен любой ребенок, рожденный в стенах этого замка. Она рисковала всем, проявляя к нему такую любовь, но ее сердце не могло иначе. Для Лады Дамиан был не только сыном короля, но и ее собственным ребенком, нуждающимся в защите и нежности.
Однажды, на второй день рождения Дамиана, когда король Корвус в очередной раз устроил показательную демонстрацию военной техники, няня Лада, спрятав свою работу под широким фартуком, достала маленькую деревянную лошадку.
Она была вырезана из светлого, отполированного дерева, с резной гривой и хвостом, и хотя была простой, но излучала тепло рук, ее создавших. Это была ее собственная работа, вырезанная тайком по ночам, когда все засыпали, из куска старой доски, найденной ею на задворках замка. На ее глазах выступили слезы, когда она вручила ее Дамиану.
– Это тебе, мой маленький принц, – прошептала Лада, ее голос дрожал от волнения и нежности. – Чтобы ты помнил, что в жизни есть место для игр и простого счастья.
Мальчик, привыкший к строгому режиму, где игрушек не было вообще, а любые предметы тщательно проверялись на предмет скрытых механизмов или «лишних» посланий, удивленно уставился на нее, а затем на лошадку. Его маленькие пальчики осторожно прикоснулись к гладкому дереву, он ощутил его тепло и необычную легкость. Дамиан впервые увидел нечто, созданное не для войны или контроля, а для простой детской радости. Его глаза, обычно серьезные и настороженные, расширились от изумления, а на лице появилась робкая, но искренняя улыбка – первая настоящая улыбка за все его короткое существование. Он прижал лошадку к груди, и это стало для него символом иной жизни, той, что была скрыта от глаз отца, той, что дарила надежду на что-то большее, чем бесконечная борьба за власть. Лада, видя его реакцию, почувствовала, что ее риск не был напрасным. Эта маленькая деревянная лошадка стала единственной игрушкой Дамиана, его тайным сокровищем, напоминанием о простых радостях жизни, о тепле и любви, которые он получал только от своей няни. Он прятал ее под матрасом, доставая лишь тогда, когда был уверен, что никто не видит, и крепко обнимал ее перед сном, словно она была живым существом, хранящим его секреты и утешающим его в одиночестве. Лошадка стала его связью с миром, где существовали не только приказы и амбиции, но и искренние чувства, где можно было просто быть ребенком.
Король Корвус, поглощенный своими грандиозными планами и вечной паранойей, не замечал этой тихой, но глубокой привязанности Дамиана к няне. Он был слишком занят, слишком уверен в своей непогрешимости и в своей способности контролировать все аспекты жизни сына, чтобы обратить внимание на такие «мелочи». Для него Лада была лишь функцией, частью отлаженного механизма по воспитанию наследника – всего лишь няня, обеспечивающая физическое благополучие, а не хранительница души. Он не понимал, откуда в мальчике, воспитанном в такой суровой обстановке, могло появиться доброе сердце, мягкость и сострадание. Если он и замечал эти проявления, то списывал их на детскую наивность, на еще не до конца сформированную личность, или просто игнорировал, считая несущественными. «Сентиментальность – это слабость, – часто повторял Корвус, обращаясь к своим генералам, но так, чтобы Дамиан мог его услышать. – Наследник должен быть выше этого». Он был убежден, что его система воспитания, основанная на жесткости, дисциплине и постоянном давлении, рано или поздно вытравит из Дамиана любые проявления «ненужных» чувств, сделает его чистым, совершенным инструментом. Он не мог и представить, что кто-то может скрыто противостоять его воле, тем более такая незначительная фигура, как старая няня. Его собственная эмоциональная скудость не позволяла ему увидеть истинную природу привязанности, он воспринимал лишь внешние проявления – послушание, силу, амбиции. Это слепое пятно в его мировоззрении, его неспособность понять силу человеческих отношений, стало его главной ошибкой. Он верил, что контролирует все, но не мог контролировать сердце своего сына, не мог предугадать, что семена доброты, посеянные Ладой, когда-нибудь дадут свои всходы и поставят под угрозу его безжалостные планы. Корвус видел лишь силу, но не видел человечности.
По ночам же, или в те редкие часы, когда Корвус был занят, он находил утешение в тихих объятиях Лады, в ее ласковых словах, в сказках, что шептала ему о мире, где добро побеждает зло, где есть сострадание и справедливость. Няня учила его чувствовать, сопереживать, видеть красоту в простых вещах. Она была его тайным убежищем, единственным уголком, где он мог быть самим собой, где не нужно было притворяться сильным и бесчувственным. Этот двойной опыт формировал его характер, превращая его в сложную, многогранную личность. Он учился скрывать свои чувства, но не подавлять их полностью. Он научился носить маску маленького, но бесстрастного воина, когда был с отцом, но глубоко внутри, его сердце оставалось отзывчивым, наполненным добротой, которую вложила в него Лада. Эта способность к сокрытию эмоций, к внутреннему разделению, стала его главной защитой и главной ношей. Он был вынужден жить в двух реальностях, постоянно лавируя между отцовской жестокостью и няниной любовью, и этот контраст отпечатался на его душе, сделав его не просто наследником, а человеком, способным к глубоким внутренним конфликтам и неожиданным поступкам. Он был закален в огне амбиций, но смягчен теплом заботы, и эта двойственность делала его куда более непредсказуемым, чем мог себе представить король. Дамиан рос в постоянном, изматывающем контрасте, словно разрываясь между двумя абсолютно полярными мирами. Дни тянулись под пристальным контролем Корвуса, наполненные настойчивыми требованиями и суровыми уроками. Маленький Дамиан, еще не умевший даже говорить, должен был заучивать наизусть названия провинций, внимательно разглядывать развешанные по стенам карты и запоминать расположение крепостей. Ему показывали оружие, объясняя его назначение и то, как им пользоваться, хотя он едва мог удержать его в руках. Корвус лично проводил «тренировки», заставляя сына ползать по жесткому ковру, чтобы «закалить его тело», или долго стоять, «развивая силу воли». Любой протест, любой плач пресекался суровым взглядом и холодным словом. Мальчика лишали еды или сна в наказание за непослушание, воспитывая в нем беспрекословное подчинение. Он изо всех сил старался угодить отцу, инстинктивно понимая, что только так можно избежать его гнева. Он внимательно слушал его речи о завоеваниях, о силе, о величии империи, хотя и не понимал их смысла, но чувствовал важность этих слов, их вес. Он старался запомнить каждое движение отца, каждое выражение его лица, чтобы подражать ему, чтобы стать таким, каким тот хотел его видеть. Эта потребность в одобрении, это стремление заслужить хотя бы малую толику похвалы, стало для Дамиана навязчивой идеей, определяющей его поведение.
Глава 7
Эммерия, словно драгоценный камень, сияла посреди разоренного войнами континента, являя собой оазис мира и процветания. Ее земли были плодородны, реки полноводны, а города бурлили жизнью, где каждый человек знал свое место и чувствовал себя защищенным. Король Валдис, с его мудрым и справедливым правлением, и королева Элара, чье сердце было наполнено любовью к своему народу, составляли идеальный дуэт, направляющий судьбу своего государства. Они были не просто правителями, но любящими родителями для двух прекрасных сыновей – старшего, рассудительного Каэлана, и младшего, пылкого Эриона, – которые уже подавали большие надежды. Их смех часто разносился по высоким сводам замка, наполняя его живой энергией и предвкушением будущего. Однако, несмотря на все это изобилие, несмотря на радость материнства, в глубине души королевы Элары жила тихая, почти невыносимая грусть – тоска по дочери, которой ей так не хватало. Она любила своих мальчиков всем сердцем, гордилась их силой и умом, но в ее представлении о счастливой семье всегда присутствовал нежный образ маленькой девочки, которую она могла бы наряжать в шелка, учить танцам и делиться с ней женскими секретами. Эта невысказанная печаль была ее личной тенью, окутывающей самые светлые моменты. Ее взгляд часто останавливался на юных фрейлинах, и в нем проскальзывала легкая зависть к их матерям. Она хотела передать свою мудрость, свое знание мира женщине, своей крови, своей дочери, но судьба, казалось, отказывала ей в этом.
– Мои сыновья – моя гордость, Валдис, – часто говорила Элара мужу, глядя на тренирующихся во дворе Каэлана и Эриона. – Они будут великими правителями, я знаю.
– Это так, моя любовь, – отвечал Валдис, обнимая ее. – И они – твое продолжение.
Но Элара лишь грустно улыбалась, зная, что, хоть это и правда, часть ее души оставалась неудовлетворенной.
Король Валдис был воплощением истинного правителя: его дни проходили в бесконечных заботах о благе Эммерии и каждого ее подданного. Он лично осматривал крепостные стены, убеждаясь в их неприступности, и проводил долгие часы с мастерами, разрабатывая новые оросительные системы для полей, чтобы урожаи были обильнее. Валдис, крепкий и мудрый мужчина с проницательными, но добрыми глазами, не боялся запачкать руки, работая бок о бок с крестьянами, завоевывая их неподдельное уважение и любовь. Под его чутким руководством процветала торговля: караваны, груженные эммерийским шелком и редкими травами, отправлялись в дальние земли, а ответные корабли привозили экзотические специи и драгоценные камни, обогащая казну и принося достаток в каждый дом. Он неустанно укреплял границы, обучал армию, но его целью никогда не было завоевание чужих земель, лишь сохранение мира и процветания своей любимой Эммерии, которую он видел не как территорию, а как живой организм, нуждающийся в постоянной заботе. Он верил, что сила правителя не в мече, а в справедливости и благоразумии.
– Мир – наш щит, а не оружие, – говорил он своим генералам, когда те предлагали агрессивные походы. – Наши богатства – в улыбках наших детей, а не в захваченных сокровищах чужих земель.
Элара часто находила утешение в уединении королевского сада, где аромат роз смешивался с запахом влажной земли после утреннего дождя. Среди журчания фонтанов и шелеста листвы она могла на мгновение отпустить свои королевские обязанности и погрузиться в воспоминания о собственном беззаботном детстве, когда мир казался огромным и полным чудес. Она мысленно рисовала образ своей дочери: золотистые или темные волосы, такие же зеленые глаза, как у нее самой, звонкий смех, эхом разносящийся по замковым коридорам. Королева представляла, как они вместе гуляют по этому самому саду, срывая цветы и собирая ягоды, делятся секретами под старым дубом, который помнил еще ее прабабушек.
– Она бы любила этот сад, – шептала Элара старой няне, которая иногда сопровождала ее. – Я бы научила ее всем названиям цветов и трав.
Ее сердце сжималось от нежности при мысли о маленьких ручках, обнимающих ее шею, о невинном вопросе, заданном тоненьким голоском. Эта мечта была настолько яркой, что казалась почти реальной, почти осязаемой.
С наступлением ночи, когда замок погружался в тишину, прерываемую лишь дозором стражи и далеким уханьем сов, королева Элара отправлялась в свою личную часовню, расположенную в самой уединенной башне. Сквозь витражные окна лунный свет проникал внутрь, озаряя фигуры святых на стенах, их лица казались строгими и одновременно сострадательными. Элара опускалась на колени перед старинным алтарем, мрамор которого был отполирован до блеска бесчисленными прикосновениями, и ее молитва начиналась как тихий шепот, постепенно перерастая в настойчивую, почти отчаянную мольбу. Она складывала ладони вместе, ее пальцы судорожно сжимались, словно пытаясь удержать ускользающую надежду.
– О, Небесные Владыки, – ее голос дрожал, растворяясь в полумраке часовни. – Вы даровали мне двух прекрасных сыновей, и я бесконечно благодарна. Но мое сердце тоскует. Моя душа жаждет дочери.
Слезы текли по ее щекам, но она не вытирала их, позволяя им смыть часть ее тоски.
– Пошлите мне дочь, – молила она, ее голос становился все громче, – и я обещаю служить вам верой и правдой до конца своих дней. Я отдам все, что у меня есть, заплачу любую цену, лишь бы эта мечта сбылась.
Каждое слово было пропитано глубочайшей искренностью и готовностью к жертве. Она была готова отдать свое богатство, свое влияние, даже часть своей жизни, лишь бы держать на руках маленькую девочку, которую она так сильно ждала. Ее вера в божественное вмешательство была безгранична, и она чувствовала, что Небеса не оставят ее мольбы без ответа.
Тоска по дочери, начавшаяся как легкая грусть, со временем превратилась в навязчивую идею, которая полностью поглотила сердце Элары. Она искала знаки в полете птиц, в узорах облаков, в каждом необычном явлении. Ее служанки и фрейлины стали замечать, что королева, обычно сосредоточенная и рассудительная, теперь часто отвлекается, ее мысли витают где-то далеко. Она стала чаще приглашать во дворец странствующих гадалок и мудрых предсказателей, надеясь, что они смогут раскрыть тайны будущего ее семьи. Элара внимательно слушала их туманные пророчества, пытаясь уловить в каждом слове намек на появление долгожданной девочки. Она изучала старинные гримуары, искала забытые ритуалы, которые могли бы помочь ей.
– Скажите мне, увижу ли я ее? – спрашивала она пожилую провидицу, чьи глаза были мутны от времени, но, как говорили, видели сквозь завесу будущего. – Появится ли в нашем роду дочь?
Провидица лишь качала головой, бормоча неясные слова о судьбе и предопределении.