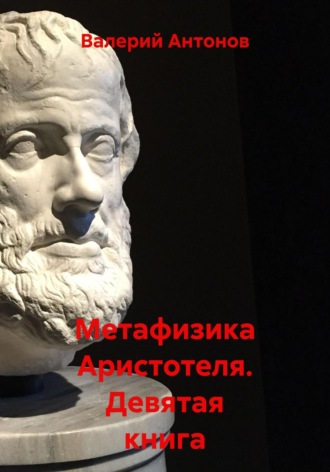
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Девятая книга
Комментарий Stephen Makin (англ.): Makin отмечает, что это различие применимо к обоим видам потенций. Можно говорить о просто горячем и о чем-то, что "хорошо" греет (например, эффективный нагреватель). Однако в случае рациональных способностей это различие становится нормативным и центральным для этики: цель virtue – не просто действие, а правильное действие (Makin S. Op. cit. – P. 92).
Критическое описание и синтез комментариев к главе 2.Глава 2 представляет собой законченное и глубокое исследование фундаментального различия двух родов способностей.
1. Гносеологическое обоснование метафизического различия: Главная сила аргументации Аристотеля, как показывают Бугай и Makin, заключается в том, что он выводит различие в функционировании потенций из различия в структуре носителя. Природа логоса (понятийного, дискурсивного знания) такова, что он необходимо охватывает сферу противоположного. Поэтому способность, основанная на логосе, наследует это свойство.
2. Разрешение парадокса единства и двойственности: Аристотель успешно разрешает проблему, как одна способность может производить противоположное. Ответ, как разъясняют Лосев и Аквинат, заключается в асимметричном отношении логоса к противоположностям. Логос является единым началом, но его содержание структурировано таким образом, что позволяет задавать два противоположных направления для действия. Душа, обладающая логосом, выступает как уникальный «мотор», направляемый не слепой природой, а смыслом.
3. Связь с этикой и теорией действия: Это различие имеет далеко идущие последствия. Оно проводит водораздел между Necessity природы и свободой разумного существа, способного к выбору. Как отмечает Лосев, здесь закладывается основа понятия моральной ответственности: человек отвечает за свои действия именно потому, что обладал знанием и, следовательно, способностью поступить иначе.
4. Телеология и нормативность: Добавление о способности «делать хорошо» (абзац [10]) вводит в учение о потенции ценностное измерение. Потенция понимается не как нейтральная возможность, а как сила, направленная к своей совершенной актуализации. Это позволяет Аристотелю later провести различие между простой возможностью и настоящей потенцией-энтелехией.
Итоговый синтез главы 2:Аристотель не просто классифицирует, а выстраивает иерархию бытия по признаку обладания тем или иным типом потенции:
Низший уровень: Неразумные потенции (однозначны, детерминированы).
Высший уровень: Рациональные потенции (направлены на противоположности, свободны).
Вершина: Рациональные потенции, актуализирующиеся "правильно" (нормативные, совершенные).
Таким образом, учение о потенции становится у Аристотеля не просто частью натурфилософии, но ключом к пониманию специфики человеческого существования, свободы и разумной деятельности.
Глава 3. Критика мегарской школы: опровержение тождества способности и деятельности
[1] Есть некоторые, например, мегарики, которые утверждают, что нечто способно (δυνατόν) [только] тогда, когда оно действует (ἐνεργῇ), когда же не действует, то и не способно. Например, кто не строит, тот не способен строить, но [способен] только тот, кто строит, когда строит; и подобным же образом обстоит дело и в остальных случаях.
[2] Нетрудно увидеть нелепые следствия из этого [воззрения]. Ведь тогда выйдет, что строитель не будет [иметь способности] строить, если он не строит [в данный момент] (ибо быть строителем – это значит быть способным строить); и то же самое [будет] в прочих искусствах.
[3] Если же невозможно обладать [искусствами], не научившись [им] и не приобретя их когда-то, и невозможно не обладать [ими], не утратив [их] (либо от забвения, либо от какого-то страдания, либо от времени; ведь не [утрачивается] ведь сама вещь, [т.е. искусство], раз оно существует [как нечто вечное]), то когда [строитель] перестанет строить, он уже не будет обладать искусством? Но как же он вновь обретет его, [когда] вновь начнет строить?
[4] То же [следует] и о неодушевленных [предметах]: ничто не будет ни холодным, ни теплым, ни сладким, ни вообще ничем из чувственно воспринимаемого, если [оно] не воспринимается чувственно, так что им придется держаться учения Протагора.
[5] Да и одушевленное не будет иметь чувственного восприятия, если оно не воспринимает чувственно. Так что если слеп тот, кто не имеет зрения, когда [он] по природе имеет [его] и когда [он] имеет [его] по природе, и когда [он должен иметь его] по природе, то одни и те же [люди] будут слепыми и глухими по многу раз на дню.
[6] Далее, если лишенное способности неспособно, то то, что не становится, не будет способным стать; поэтому тот, кто говорит о том, что не становится, что оно есть или будет, говорит неправду, ибо это [значит] утверждать невозможное.
[7] Таким образом, эти взгляды упраздняют движение и возникновение. Ибо стоящее всегда будет стоять, а сидящее – сидеть; ведь [сидящий] не сможет встать, если у него нет способности вставать. Следовательно, если нельзя встать без способности, а тот, кто сидит, будет неспособен [встать], согласно [их учению], то никто никогда не встанет.
[8] Если же это невозможно, то очевидно, что способность и деятельность (δύναμις καὶ ἐνέργεια) – не одно и то же, а различны. А те [взгляды] делают способность и деятельность одним и тем же, поэтому они пытаются упразднить нечто далеко не малое.
[9] Таким образом, возможно, что нечто способно быть, но не есть, и [что нечто] не способно быть, но есть. И подобным же образом и в других [категориях]: способно ходить, но не ходит, и не способно ходить, но ходит.
[10] А способным (δυνατόν) считается то, для чего, если предположить осуществление той деятельности, для [осуществления] которой оно признано способным, ничто не окажется невозможным.
[11] Например, если нечто способно сидеть и ему присуще сидеть, тогда, если это случится, ничто невозможное не произойдет; и подобным же образом, если оно способно двигаться или быть движимым, остановиться, быть, возникнуть, не быть или не возникнуть.
[12] А название «деятельность» (ἐνέργεια), которое соединено с осуществленностью (ἐντελέχεια), перенесено [главным образом] на движения [и лишь потом] на другие [вещи]; ибо деятельность, по-видимому, больше всего есть движение.
[13] Поэтому не-сущему не приписывают движение, но приписывают некоторые другие [предикаты]: ибо не-сущее может мыслиться и желаться, но не двигаться; а [все] это потому, что оно не существует в действительности (ἐνεργείᾳ), но [существует] в возможности (δυνάμει).
[14] И из числа не-сущего нечто существует в возможности, но не существует, ибо не [существует] в действительности.
Комментарии и разъяснения по абзацам.Абзацы [1] – [8]: Критика мегарской школы и абсурдные следствия их ученияСодержание: Аристотель излагает и опровергает взгляд мегарской школы (последователей Евклида из Мегары), которые отождествляли потенцию (δύναμις) с актом (ἐνέργεια). Их тезис: «способен только тот, кто действует». Аристотель методом "reductio ad absurdum" выводит из этого положения ряд нелепых следствий:
1. Для искусств (техне): Человек терял бы знание ремесла, как только переставал бы его применять, и обретал бы вновь волшебным образом, как только начинал. Это уничтожает саму идею приобретенного и устойчивого навыка.
2. Для чувственных качеств: Свойства вещей (холод, сладость) существовали бы только в момент их восприятия, что является прямым утверждением релятивизма Протагора («человек – мера всех вещей»).
3. Для способностей души: Человек многократно в течение дня становился бы слепым и глухим, просто закрывая глаза или не прислушиваясь.
4. Для движения и изменения: Становление было бы невозможно. То, что сидит, не имело бы "способности" встать, пока не встало бы, а значит, никогда не встало бы. Это приводит к полному параличу всякой деятельности и изменчивости мира.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев оценивает эту критику как «сокрушительную». Он подчеркивает, что Аристотель защищает здесь саму идею становления, которая невозможна без признания потенции как реальной, но еще не актуализированной силы. «Мегарцы… хотели видеть в мире только голые акты… Аристотель… показывает, что без потенции… самый акт оказывается немыслим, ибо он неоткуда взялся бы и не во что превращался бы» (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М., 1975. – С. 439-440).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай акцентирует онтологический статус потенции. Критика мегарцев доказывает, что потенция – это не просто логическая возможность, а реальная возможность (potentia realis), имманентно присущая самой вещи (искусство – в душе мастера, способность видеть – в глазу). Ее бытие не сводится к ее проявлению, она является устойчивым свойством (ἕξις) сущего (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Комментарии // ΣΧΟΛΗ. – 2015. – С. 309-310).
Комментарий Stephen Makin (англ.): Makin обращает внимание на стратегию аргументации. Аристотель атакует мегарцев с двух флангов: со стороны статических свойств (искусство, качество) и со стороны процессов изменения (движение, становление). Показывая, что их доктрина несостоятельна в обоих случаях, он демонстрирует ее полную неадекватность для описания реальности (Makin S. Aristotle Metaphysics Book Θ. – Oxford: Clarendon Press, 2006. – P. 95-98).
Абзацы [9] – [11]: Положительное определение возможности (способности)Содержание: Опровергнув мегарцев, Аристотель дает свое положительное определение «способного» (δυνατόν). Оно носит модальный характер: нечто способно, если предположение о его осуществлении не влечет за собой логического противоречия или невозможности. Это определение отсекает чисто логические возможности (например, возможность того, что диагональ соизмерима со стороной квадрата) и указывает на реальную возможность, коренящуюся в природе вещи.
Комментарий W.D. Ross (англ.): Ross отмечает, что это определение, хотя и верное, является минимальным и формальным. Оно задает необходимое, но не достаточное условие. Истинная потенция, по Аристотелю, требует также наличия внутреннего начала или склонности к осуществлению, что будет раскрыто далее (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 264).
Комментарий Thomas Aquinas (лат., в англ. пер.): Фома Аквинский разъясняет, что это определение устанавливает границу между "возможным" и "невозможным". Возможное – это то, чье осуществление не противоречит законам логики и природы. Аристотель подчеркивает, что способность относится к будущему: мы говорим о чем-то, что оно "может" произойти, и это суждение истинно, если в момент осуществления не возникнет никакой непреодолимой преграды (Aquinas T. Commentary on Aristotle's Metaphysics. Book Theta, Lec. 3. – P. 25-26).
Абзацы [12] – [14]: Уточнение понятия деятельности (энергии) и его связь с энтелехиейСодержание: Аристотель делает важное терминологическое уточнение. Понятие «энергия» (ἐνέργεια – деятельность, действительность) изначально было связано с движением (κίνησις), которое является его наиболее явным примером. Однако затем это понятие было расширено и перенесено на другие вещи. Ключевая связь – с понятием энтелехии (ἐντελέχεια – осуществленность, завершенность). Это позволяет применять его даже к случаям, не связанным с движением, например, к сфере мышления и желания. Не-сущее может быть помыслено (потенциально существует в мысли), но не может двигаться, так как для движения требуется substrate, существующий актуально.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит здесь crucialный момент: расширение понятия энергии за пределы движения к бытию как таковому. «Энергия у Аристотеля… есть… осуществленность вообще, то есть такая действительность, которая уже содержит в себе свою собственную возможность как осуществленную цель… Энтелехия и есть такой осуществленный и целесообразно завершенный результат энергии» (Лосев А.Ф. Указ. соч. – С. 441).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай подчеркивает, что это уточнение готовит почву для главного метафизического применения пары «потенция-актуальность» – к вопросу о соотношении материи и формы, души и тела. Движение – лишь частный случай актуальности. Высшие ее формы – это покоящиеся состояния осуществленности, такие как знание или счастье (Бугай Д.В. Указ. соч. – С. 311).
Критическое описание и синтез комментариев к главе 3.Глава 3 является критико-положительной. Разрушая учение мегарцев, Аристотель одновременно утверждает основы собственной онтологии.
1. Защита реальности потенции: Главная цель главы – доказать, что потенция (δύναμις) является необходимым онтологическим понятием. Мир не состоит из голых актов; он динамичен, и сама его изменчивость требует признания реального бытия возможностей, сил, способностей и предрасположенностей, которые существуют даже тогда, когда не проявляются.
2. Критика редукционизма: Мегарцы пытались редуцировать модус бытия «в возможности» к модусу бытия «в действительности». Аристотель показывает, что такая редукция уничтожает самые фундаментальные феномены: устойчивость свойств, непрерывность личности (обладающей знаниями), саму возможность изменения. Это классический пример защиты сложности и многоуровневости реальности от упрощенных схем.
3. Уточнение понятийного аппарата: Давая свое определение «способного», Аристотель закладывает основание для дальнейшего анализа. Важнейшим же шагом является разделение и связь понятий ἐνέργεια (деятельность, актуальность) и ἐντελέχεια (осуществленность, завершенность). Как отмечают Лосев и Бугай, это позволяет ему выйти за рамки философии природы (где главное – движение) в сферу первой философии, где актуальность понимается как форма, сущность и цель бытия сущего.
4. Подготовка к учению о первичной актуальности: Критикуя мегарцев за отождествление акта и потенции, Аристотель готовит почву для последующего утверждения примата актуальности над потенцией (которое будет развито в следующих главах). Он показывает, что хотя потенция и реальна, она определяется и направляется к своей актуальности, а не наоборот.
Итоговый синтез главы 3:Аристотель отстаивает динамическое понимание бытия, которое включает в себя два неразрывно связанных, но различных модуса: потенцию и актуальность. Отрицание этого различия leads к абсурдным последствиям: мир замирает в статике, знание исчезает, изменение становится невозможным. Таким образом, глава выполняет роль онтологического обоснования изменчивого мира, каким его видит Аристотель. Потенция – это не ничто, а реальная сила бытия, находящаяся в состоянии устремленности к своей осуществленности (энтелехии).
Глава 4. Логические отношения возможности и необходимости.
[1] Но если возможное (δυνατόν) [определяется так, что] тогда, когда возможность имеется, ничто невозможное не последует, если мы предположим осуществление того, что признано возможным, то нельзя будет сказать, что это возможно, но не будет [никогда], – ибо тогда оказалось бы, что нечто невозможно признается возможным.
[2] Например, если бы кто-то сказал – тот, кто не признает [этого различия], – что возможно, чтобы диагональ [квадрата] была соизмерима [со стороной], но что она никогда не будет соизмерима, – ибо ничто не мешает тому, чтобы нечто возможное не было [в действительности] и не осуществлялось.
[3] Но из принятого нами [определения] необходимо, чтобы если мы предполагаем существующим или возникающим то, что возможно, но не существует, то из этого не следовало бы ничего невозможного; между тем в случае диагонали [следовало бы невозможное], ибо [оказалось бы], что она соизмерима, что невозможно.
[4] Итак, ложное (ψεῦδος) и невозможное (ἀδύνατον) – не одно и то же. Ведь что ты сейчас стоишь – это ложно, но не невозможно.
[5] В то же время ясно, что если при наличии А необходимо должно быть Б, то и если возможно А, необходимо должно быть возможно и Б.
[6] Ибо если бы не необходимо было, чтобы Б было возможно, то ничто не мешает [допустить], что оно невозможно. Пусть же А возможно. Тогда, когда возможно А, если предположить, что А есть, ничто невозможное не следует; но тогда необходимо должно быть и Б. Но ведь [по предположению] оно невозможно. Пусть же оно невозможно.
[7] Если же Б невозможно, то и А необходимо должно быть невозможно. Но А было возможно; следовательно, и Б возможно. Итак, если А возможно, то и Б будет возможно, если [они] относятся друг к другу так, что при наличии А необходимо должно быть Б.
[8] Если же при таком отношении А и Б друг к другу, Б не необходимо возможно, то и А и Б не будут относиться друг к другу так, как предполагалось.
[9] А если при возможности А необходимо должно быть возможно Б, то и при наличии А необходимо должно быть Б. Ибо то, что необходимо должно быть возможно Б, если возможно А, это значит, что если А возможно, и когда оно возможно, и как оно возможно, то таким же образом необходимо должно быть и Б.
Комментарии и разъяснения по абзацам.Абзацы [1] – [4]: Прояснение отношения возможности к действительностиСодержание: Аристотель возвращается к своему определению возможности из предыдущей главы («способно то, для чего… ничто не окажется невозможным») и проясняет его следствия. Он утверждает, что из этого определения не следует, что всякая возможность должна когда-либо реализоваться. Однако есть особый класс возможностей – логически невозможное (как соизмеримость диагонали квадрата с его стороной) – которые не могут быть реализованы "никогда", и называть их «возможными» – ошибка. Это позволяет ему провести crucialное различие между ложным (то, что не является действительным, но могло бы им быть) и невозможным (то, что не может быть действительным в принципе).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай подчеркивает, что Аристотель здесь проводит границу между реальной и логической возможностью. Реальная возможность, основанная на природе вещи (как способность человека сидеть), может и не актуализироваться. Логическая же возможность – это более широкое понятие, но Аристотель исключает из сферы «возможного» (δυνατόν) то, что внутренне противоречиво и ведет к невозможному. Таким образом, его определение возможности является модально сильным (Бугай Д.В. Аристотель. Метафизика. Комментарии // ΣΧΟΛΗ. – 2015. – С. 312).
Комментарий Stephen Makin (англ.): Makin обращает внимание на онтологический подтекст. Аристотель защищает объективность невозможного. Невозможное – это не просто то, что мы не можем помыслить без противоречия, а то, что не может произойти в самой реальности в силу ее структуры (как математическая невозможность). Это укрепляет его аргумент против мегарцев: не-актуализированная реальная возможность и логическая невозможность – совершенно разные вещи (Makin S. Aristotle Metaphysics Book Θ. – Oxford: Clarendon Press, 2006. – P. 104-105).
Комментарий Thomas Aquinas (лат., в англ. пер.): Фома Аквинский поясняет, что аристотелевское определение возможности направлено против тех, кто, подобно Диодору Крону (мегарцу), утверждал, что возможное – это только то, что когда-либо станет действительным. Аристотель же показывает, что возможное может и не актуализироваться из-за внешних препятствий, но от этого оно не перестает быть возможным. Невозможное же не актуализируется в силу внутренней причины (Aquinas T. Commentary on Aristotle's Metaphysics. Book Theta, Lec. 4. – P. 30-31).
Абзацы [5] – [9]: Логический закон передачи возможности.Содержание: Аристотель формулирует и доказывает важный логический принцип, связывающий необходимость и возможность. Если из существования А с необходимостью следует существование Б, то и из возможности А с необходимостью следует возможность Б. Доказательство ведется от противного: если допустить, что А возможно, а Б невозможно, то при осуществлении А (что допустимо, раз оно возможно) мы получили бы Б, которое по предположению невозможно. Но это противоречит исходному условию, что осуществление возможного не ведет к невозможному. Следовательно, наше допущение ложно, и Б must быть возможным. Далее Аристотель делает шаг дальше: если связь между А и Б необходима, то и при актуальном существовании А необходимо существует Б.
Комментарий W.D. Ross (англ.): Ross отмечает, что в этом пассаже Аристотель, по сути, формулирует один из базовых законов модальной логики: ◇A ∧ □(A → B) → ◇B (Если А возможно, и необходимо, что если А, то Б, то Б возможно). Однако доказательство Аристотеля не является чисто логическим; оно опирается на его онтологическое определение возможности, связывающее возможность с осуществимостью без противоречия (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. II. – Oxford: Clarendon Press, 1924. – P. 265-266).
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит в этом не просто формально-логическое упражнение, а проявление глубокой связи между логикой и онтологией у Аристотеля. «Логический закон здесь является отражением причинной связи в самой реальности. Если А есть причина Б, то возможность причины с необходимостью влечет за собой возможность следствия… Модальные категории оказываются у Аристотеля формами бытия, а не только формами мышления» (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М., 1975. – С. 442).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай акцентирует, что этот закон имеет прямое отношение к учению о движении и изменении. Если некое состояние А (например, нахождение строителя рядом с материалом) необходимо влечет за собой состояние Б (начало строительства), то из возможности А (способность строителя и наличие материала) следует возможность Б. Это еще один довод против мегарцев: потенция причины содержит в себе потенцию следствия (Бугай Д.В. Указ. соч. – С. 313).
Критическое описание и синтез комментариев к главе 4.Глава 4 представляет собой сложный логико-онтологический анализ модальных понятий (возможность, необходимость, невозможность).
1. Уточнение определения возможности: Аристотель защищает и проясняет свое определение, показывая, что оно не влечет за собой фаталистического вывода о том, что все возможное должно реализоваться. Ключевым является различение:
Ложное (ψεῦδος): Не-актуализированная, но реальная возможность.
Невозможное (ἀδύνατον): Логически или онтологически противоречивое состояние, которое не может быть актуализировано никогда.
2. Формулировка закона модальной логики: Центральное достижение главы – формулировка и доказательство принципа передачи возможности по необходимой связи. Этот принцип демонстрирует высокий уровень развития логической мысли у Аристотеля и его понимание связи между модальностями.
3. Единство логического и онтологического: Как верно отмечают Лосев и Бугай, Аристотель не занимается «чистой» логикой. Его логические законы – это отражение структуры самого бытия. Закон передачи возможности работает потому, что в реальности существуют необходимые причинно-следственные связи. Возможность причины реально содержит в себе возможность следствия.
4. Подготовка к учению о перводвигателе: Этот логический аппарат, как отмечают некоторые комментаторы (например, Ross), в дальнейшем будет использован Аристотелем в XII книге «Метафизики» для доказательства существования неподвижного перводвигателя. Идея необходимой связи и передачи актуальности (а не только возможности) станет там центральной.
Итоговый синтез главы 4:Аристотель завершает начатое в предыдущей главе построение строгого понятия реальной возможности. Это возможность, которая:
Определяется негативно: Ее осуществление не ведет к невозможному.
Не является фатальной: Она может и не актуализироваться.
Отлична от логической возможности: Она исключает внутренне противоречивое.
Подчиняется законам причинности: Передается по цепям необходимой связи.
Таким образом, глава 4 служит мостом между опровержением мегарского редукционизма и позитивным учением о примате актуальности, которое последует далее. Аристотель закладывает логический фундамент, который позволяет ему говорить о потенции не как о чем-то неопределенном, а как о строго детерминированном начале, подчиняющемся законам бытия и мышления.
Глава 5. Условия реализации способности: желание, контакт и отсутствие препятствий.
[1] Способности (δυνάμεις) возникают частью от природы (врожденные), как, например, чувства, частью от привычки (привычные), как, например, [способность] играть на флейте, частью от обучения (выученные), как, например, искусства. Те из них, которые [возникают] от привычки и размышления, необходимо должны быть приобретены через предварительную деятельность, а те, которые [возникают] не так и [предназначены] для претерпевания, – не обязательно.
[2] Но поскольку способным быть [значит] быть способным [к чему-то] когда-то и как-то (и все прочее, что должно быть добавлено в определении), и поскольку одни [способности] способны действовать согласно разуму и обладают разумными способностями, а другие – не согласно разуму и обладают неразумными способностями, и поскольку первые необходимо [находятся] в одушевленном, а вторые могут [находиться] и в одушевленном, и в неодушевленном, —











