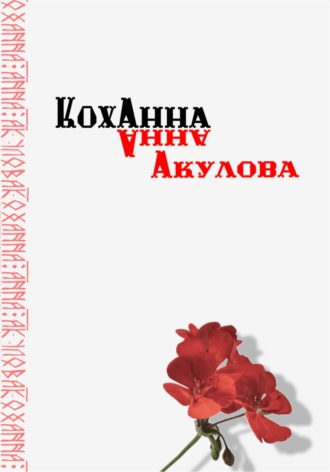
Полная версия
Коханна
Она увидела привидение. В паре десятков аршин (Аршин – 71,12 см). от амбара в белом одеянии на коленях стояло чудище. Кикимора – пришло в крестьянскую голову девушки логичное объяснение. Маша истово закрестилась и даже крестила в воздухе существо, еле слышно лепеча “чур меня, чур меня”, но картинка не менялась.
Существо продолжало стоять и, как Маша смогла расслышать в глухой тишине ночи, молилось. Молилось горячо, не замечая ничего и никого вокруг. Существо было Таисией Афанасьевной.
Господи, Святый Боже, помилуй мя. Ниспошли в сердце невестки моей, рабы Божией Марии, любовь к моему сыночку, рабу Божиему Демьяну. Открой ее сердце для любви, для радости. Открой душу ее для разумения. Помоги Господи семье нашей. Ниспошли нам лад да радость, деток здоровых, хлебов богатых, лет долгих…
Она что-то достала из рукавов и бормотала: “в сладости волосы сплетаются. Так и души Демьяна и Марии в страсти и неге сплетаются”.
Маша обмерла. Даже кисель присмирел в ее теле. Она попятилась назад маленькими шажочками, завернула за пуню и тогда уж бегом, как мышь от кота, полетела к дальнему нужнику.
Лежа потом рядом с похрапывающим супругом, как со стороны увидела Маша всю картину их с мужем жизни. Она вдруг ощутила всю боль матери Демьяна. Со стыдом вспомнила, как уходила из дома, где с ней обращались по-семейному тепло, к родной, но извечно недовольной и осуждающей матери. Как гордо и глупо говорила свекрови: “Я вашего сына, душегубца, никогда не полюблю”. Теперь, когда у самой рос сыночек, слова эти жгли душу. Что-то навсегда изменилось в сердце Маши. В ту ночь она со слезами простилась с принцем Павликом, простилась тяжело и навсегда. С утра встала с лежанки покладистой и понимающей женой своего рыжего Коханка.
Года два-три Коханки жили без существенных поводов пополнить колонку лобковских новостей. Даром что дед Антип к ним хаживал чуть не каждый день. В 1909 году родился сыночек Егорушка, в 1912 – Николенька. Несмотря на то, что Демьян испробовал свои “колдовские” приемчики на парочке соседских бобылок, в семье был относительный лад и спокойствие. Чего нельзя сказать про жизнь российской империи.
Странные были времена, муторные. После революций 1905, 1917, после раскола людей на “белых” и “красных”, на идейных и безыдейных, недопонимание проросло во всем, что касалось человеческого общения. Как будто люди потеряли основу мира и теперь пытались ее найти, пробуя новые роли. Пробуя и удивляясь, а что и так можно было? И так тоже правильно? Чудны дела твои, Господи. Господа коммунисты тоже упразднили. Погорячились конечно, Он был бы кстати в такие смутные времена. Но Бога враз отменили. И казалось, что он действительно покинул Русскую землю и люди справлялись без него по своему скудному разумению.
Все встало с ног на голову. Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов перевернул действительность резче, чем Декрет о Мире или о Земле. Хороша была эта действительность или так себе, справедлива или нет, не под силу рассудить отдельному человеку. Но был определенный, понятный каждому уклад. И всякий кто хотел находил свое место под солнцем, знал что и как делать, что дозволено, а что нет и чего примерно ждать. Все шло своим чередом.
Реформы Столыпина обещали сделать крестьян хозяевами земель. Одной из вех реформы была идея о выкупе государством земель у помещиков и продажа по льготным условиям крестьянам, а также переселение семей с подъемными на необжитые земли (Подъемные – денежная ссуда для подъема хозяйства).
Земля была бы в настоящей собственности. О большем люди села и мечтать не могли. Ведь и с церковно-приходским образованием ясно, что богатые жители – это богатая страна.
Петр Аркадьевич Столыпин был убит в 1911 году каким-то психом, застрелен прямо театре, где находились августейшие особы. А мечту крестьян о своей земле взяли на идеологическое вооружение совсем не те, кто хотел им ее отдать. Фантазиями о мире и собственной земле подкупили революционеры неокрепшие умы. Но обещать – не значит, жениться. Вместо мира получили войну внутри своего же государства, а вместо того, чтобы раздать людям землю, поотбирали даже у тех, у кого она была.
После революции князья перестали быть дворянами, попы – духовенством, лавочники – купцами. Все стали называться непонятным на селе словом – гражданин. Стали равноправными гражданами и гражданками молодой страны, товарищами. Равноправие очень скоро проявилось в одинаковом отсутствии прав. А самые истовые товарищи вели себя совсем не по-товарищески.
Сотни тысяч казаков вдоль почти всей российской границы перестали быть казаками. Перестали ими быть на бумаге, документально. Но разве может голова простого человека успеть за Декретами? Разве может человек в одночасье стать кем-то, кем вчера не был? В умах одних новоявленных граждан пошла смута и неприятие, в головах других – восторг и желание двигаться вперед к изменениям, пусть и пока непонятным.
Из всего этого вылилась Гражданская война. В ней все стали равноправными перед смертью. Зачастую жестокой, нелепой и ненужной, как будто граждане убивали друг друга на всякий случай. Очень странные получились товарищи, готовые обокрасть, растерзать, убить и все во имя счастья и справедливости.
Лобки успели побывать под властью Австро-Венгрии по условиям мирного договора, которым бесславно для России завершилась первая мировая война. Лихорадило волость во времена гражданской войны. Вплоть до конца ее в тех краях значилось два самоуправляющихся общества: крестьянское и казачье. Последнее почти поголовно выступало за прежние традиции. Вместе с другими деникинцами продвигались сторонники старого режима к Москве. Если бы советские власти не подкупили Махно деньгами и обещаниями и его вольная армия не ударила в тыл белогвардейцам, никто не знает как бы развернулись события. Но все закончилось по известному сценарию. Казаков нещадно истребляли.
Бог любил Коханков. Они уже в нескольких поколениях значились крестьянами. Не пришлось никому из семьи в братоубийственной гражданской войне участвовать. Дедушка Степан успел почить, Демьян и дядя Илья миновали мобилизационный возраст, а мальчишки были малы. На момент октябрьской революции Ивану Сипейко – старшему из сыновей Демьяна и Марии – тринадцать, Егору – восемь, Николаю – пять. Через два года Бог подарил редкую для Коханков драгоценность – родилась девочка. Ее назвали Анютой.
Глава 10 Мама, прощай
Через четырнадцать лет Анюта в горнице с геранью на окнах будет держать за руку укрытую красным одеялом Марию Евсеевну. В холодной избе сбирает на стол пышнотелая Ксения, роняя от волнения крынки и кудахча “ай, божечки, божечки!” Анюта вздрагивает и жалеет, что дома нет ни одного из братьев. Николай учится в Москве. Егор – в Брянске. Оба брата – на инженеров. Молодая страна советов усиленно готовит кадры для индустриализации. Иван из столицы перебрался в Краснодар, где заведует сельско-хозяйственным техникумом.
Хороша или плоха рабочая революция, но только при царе вряд ли крестьянские дети, вроде Коханков, смогли бы учиться в высших учебных заведениях. До революции если такое случалось, то как единичные, уникальные случаи.
Новая власть дала новые возможности. Одним, которые буржуи, – попробовать жить без привычного комфорта. Другим, которые пролетариат и крестьяне, – примерить непривычные роли. Всех несогласных либо выслали из страны, либо уничтожили. Либо им пришлось делать вид, что они со всем согласны и тщательно скрывать непролетарское происхождение. У Коханков была хоть и непролетарская, но правильная для Советов родословная – крестьянская. Об их казачьих корнях сведений не сохранилось, а не то пришлось бы худо.
Иван со всем пылом юности воспринял новую политику. Когда только все свершалось в 1917, услышал малец, как отец ругает советскую власть. Дескать, шантропа да голодранцы слушают немецкие бредню и дурью маются. С тех пор он при каждом удобном случае выискивал “немецкие бредни” и убеждался, что отец ничего не понимает, а Ленин – тот дело говорит.
Когда ты отучился семь годов в сельской школе, а отец всего лишь прожил жизнь, то ты в жизни, конечно, лучше разбираешься, чем он. Голова то у тебя светлая, умная, свежая, не то что у него, старика. Отец – он тоже башковитый, но приземленный. Высокие идеи коммунизма и всеобщего равенства рожденному при царе родителю в голове не уместить. Есть в нем мудрость и опыт, но хватает их туточки, в Лобках, по хозяйству, а мировую революцию таким умом не осмыслить. Тут Ивановых семи классов школы маловато, не то что четырех церковно-приходских, как у Демьяна.
В пятнадцать лет Иван под причитания матери и бабки собрал котомку, попросил у родителей денег на первое время и отправился в Москву доучиваться. Образование оказалось бесплатным и качественным. Иван после рабфака окончил сельскохозяйственную академию и по распределению попал в Краснодар.
Выбился Иван, как говорят на селе, в люди, женился, родил дочку Валю, назначен директором сельскохозяйственного техникума. На рабочем месте и застала его весть о тяжелой болезни и смерти матери. На похороны Иван никак не успевал. Решил в таком разе попасть на девятый день.
Путь из Краснодара до Лобков не близкий. В начале двадцать первого века этот путь станет еще длиннее. Не по километражу, конечно. Пространство осталось прежним. Судьбы украинского и российского народов неожиданно отдалились друг от друга на высоком политическом уровне. Донбасский транзитный железнодорожный ход, проложенный через Украину, будет утрачен.
В тридцатые годы двадцатого века две трети поездов из Москвы на юг следовали через Малороссию, следовательно, громыхали и мимо станции Погар. Так что жители двадцать первого века могут только позавидовать Ивану Сипейко, который без проблем взял жд билет Краснодар – Погар.
Хотя чему тут завидовать. Сын ехал навсегда проститься с матерью. В купе Иван был один. Осмотревшись, он тяжело опустился на нижнюю полку. Заглянула кокетливая проводница с вопросом о чае. Она увидела серьезное, даже суровое круглое лицо пассажира. Ее опытный глаз определил: едет номенклатурный работник, семейный, явно на хорошем счету и ловить с ним ей нечего. Больше девушка его не беспокоила до самого Погара.
Сознание Ивана Демьяновича всеми силами старалось уберечь носителя от конечной цели поездки. Он размышлял о рабочих несданных планах в своем учреждении, о педсоставе на следующий учебный год, о том, что неплохо бы забрать Анюту учиться в Краснодар, что жене была бы помощь с маленькой Валечкой, что кстати нужно распорядиться насчет инвентаризации постельного в общежитии техникума – посчитать сколько осталось одеял да подушек. Но в какой-то момент Иван Демьянович упустил нить рассуждения и мысль, что “мамы больше нет” накрыла его жуткой тишиной. Он слышал стук колес, слышал как кто-то в соседнем купе перебирает струны гитары, слышал шаги по коридору. Но внутри себя он не улавливал ни одной мысли, кроме страшной, пустой и безобразной. “Мамы нет! Моей мамы Маши нет!”
Если бы снимали фильм, он, наверное, зарыдал бы навзрыд и картинно закинул руки, закрывая уродуемое болью лицо. Но он был советский гражданин и даже наедине с собой не мог позволить разрыдаться как в дешевом театре. Иван сидел ровно, смотрел в окно немигающими глазами, а мысли выбивали его из колеи.
Мысли о Боге. Если Бога нет. А его нет, это доказано диалектическим марксизмом. То мать умерла насовсем? Ее нет? Совсем нет? Но она то верила в Бога и всегда говорила, что тот уготовил самое лучшее для нас, что главное ему не мешать. Делай, Ванечка, что должен, и будь, что будет, Он все управит. Звенел ее родной голос в душе. Она верила в вечную жизнь, а теперь умерла. Попала она в вечность? Увидит он ее в каком-то новом качестве? Если такое предположить, Бог есть что ли? Лучше бы он был. Лучше бы она была права. Ленин тогда не прав? Сознание опять пыталось заглушить ту жуткую мысль. Но она просачивалась: “Есть Бог в итоге или нет, а мамы нет. Мамы нет.”
Глаза жгло. Он допустил слезы. Они текли по его раскрасневшемуся разгоряченному каменному лицу. Неожиданно по подбородку потекла струйка крови. Иван Демьянович, пытаясь сдержать эмоции, прокусил губу. Он отер подбородок, поискал, обо что вытереть руку, кроме свернутого красного одеяла в купе ничего подходящего не нашел. “Я же не распорядился в общежитие заказать дополнительные одеяла”, – ворвалось в его голову. Это была последняя капля. Взрослый Иван упал на красный калачик белья и разрыдался в голос, как маленький мальчик на коленях у любящей матери. Больше никакие посторонние мысли не донимали пассажира. Он перебирал в памяти детство, юность, как мало маме писал, как мало с мамой говорил, как редко приезжал навестить, корил себя и оправдывал, оправдывал и снова обвинял.
В Лобки он приехал совершенно издерганным и постаревшим. Словно ему шел не тридцатый год, а как минимум семидесятый. Наверное, потеря родителя – основная ступень во взрослении. Даже не ступень, а целый этаж. Сколько бы тебе ни было лет, каким бы серьезным ты ни был человеком, пока живы родители, ты все равно чей-то ребенок. А когда они уходят, ты теряешь детство навсегда.
Герань на окнах отчего дома не успокоила и не обрадовала Ваню, только добавила в душу пустоты. Раньше цветы ассоциировались с мамой, которую он через минуту крепко-крепко обнимет. Навстречу ему вышла красивая и совсем молоденькая девушка. Анюта? Анюта! Как она выросла. Как!? Он то помнил ее десятилетней девчушкой. Четыре года, что они не виделись, изменили сестру, превратив из девочки в почти что женщину с очень пронзительными взрослыми мудрыми глазами. “Есть в ней что-то от Любови Орловой”, – примечал он, разглядывая сестру, как будто видел ее впервые.
Анюта обняла брата. Скорбь захватила их немые объятия. Но было еще что-то. Что-то, что сестра прячет от него, что-то, что он все равно узнает. Растерзанный горем, Иван стал сверхчувствительным. И он чуял нутром, что-то не так. Он смотрел Ане в глаза и читал в них страх, боль и одновременно желание ему что-то рассказать, поведать. Что-то, что нельзя сказать словами, это что-то тяготило ее, и нет, это не касалось смерти матери.
Иван обменялся крепкими рукопожатиями и объятиями с отцом и братьями. Снова ощущение недосказанности. Какой-то тайны между всеми. Ему стало казаться, что он сходит от печали с ума, что он накручивает себя.
На дворе и в избе сновали соседские бабы и девки. Точнее, не бабы да девки, а сознательные и не чуждые соседского горя жительницы колхоза “Красные Лобки”. С самого утра они чистили овощи, шинковали капусту на традиционные для поминок щи, заводили и месили тесто для пирогов, варили кисель. Все делалось бережно и помощниц было гораздо больше, чем требовало количество приготовляемого. Щи – совсем пустые, пироги с лебедой, кисель жиденький и совсем не такой пахучий да сладенький, какой любила покойница. Все блюда – постные, хотя никакого церковного поста в советском колхозе быть не могло. Постились люди не по религиозному разумению, а вынужденно.
В стране был голод. Если бы жителей Лобков перенесли в двадцать первый век в какой-нибудь супермаркет и они услышали, как кто-то страдает от отсутствия хамона иберико или настоящего французского сыра из-за жестоких санкций, то этот кто-то наверное услышал бы о себе всякие непечатные крестьянские слова. Его бы сюда, в 1933 на Брянщину или Поволжье.
Голод 1932-1933 случился не только из-за засухи. Промышленно развитые страны наложили эмбарго на советское золото, запретили ввозить из СССР лес, руду, уголь, нефтепродукты, драгметаллы. В общем, все, за что можно получить валюту. Валюта нужна была для закупки промышленного оборудования. Без которого не восстановить экономику. К оплате принималось только зерно. Расчет простой: в СССР начнется голод, народ взбунтуется, большевики потеряют власть, территорию страны можно будет растащить по лакомым кускам. План по развалу какой-либо страны обычно такой: дестабилизируем ситуацию внутри страны, граждане свергают власть, пользуемся неспокойными временами (от дачи невыгодных кредитов до аннексий территорий).
К слову, на этот раз власть удержалась и индустриализация страны шла небывалыми темпами, удобренная жизнями умерших от голода, приправленная пОтом и смертью репрессированных людей. Кто знает, как бы страна перенесла Великую Отечественную войну 1941-1945, не будь жутких мер по развитию промышленности в тридцатые годы. Кто знает, была бы Великая Отечественная вообще, было бы Гитлеру с кем воевать на Востоке. Или был бы Гитлер, который появился сразу после неудачной попытки развалить СССР. Говорят, его партию спонсировали американские и британские финансисты. Может, где-то в параллельных Вселенных и существует мир без России, СССР или Гитлера в разных вариациях, а в осязаемой людьми Вселенной история не дает ответов на вопросы “что было бы?”
Жители Лобков политических премудростей не знали. На их глазах произошло вот как. Власти сначала забрали весь хлеб и скот у частников, а потом посгоняли людей в колхозы с нелегкой трудовой повинностью. Ходила тяжелая крестьянская шутка “Колхоз – дело добровольное. Не пойдете – расстреляем”.
Введенные в СССР паспорта с прописанным местом жительства колхозникам на руки не выдавались, чтобы они не сбежали от своего трудового счастья. Несмотря на тяжелую работу, жизнь не становилась сытнее. Убранный колхозный хлеб нельзя было трогать под страхом смертной казни. Есть было почти нечего, даже в черноземных территориях страны.
Помянуть Марию Евсеевну сойдутся жители трех колхозов: Красные Лобки, Путь бедняка (так решил именоваться дальний хутор), Захаркин Гай, что организовались на месте Лобков. Иван ходил по некогда богатому дому, заглядывал в пуню, вспоминал как здесь толклись овечки, а в стойлах стояли рабочие лошади и два ездовых красавца. Дитем он любил залезть на самую верхатуру стога и утопать в запахе сухих трав. Сейчас карабкаться в пуне не на что, сеном кормить некого. Но им пахнет по-прежнему, все пропитано воспоминаниями и мамой. Мамой, которой больше нет.
Демьян Степанович, як быти? Посудины под кысэль нэ хватат, – певучий с ярким кацапским говором голос принадлежал ладной женщине с белыми полными руками. Она стояла напротив отца, излагая нехитрые бабьи соображения по важным на поминках мелочам.
Иван шел на ее голос, подмечая каждый жест отца. Как будто все происходило в замедленной съемке. Вот баба при разговоре трогает батю повыше локтя. Тот убирает ее руку. Она как будто спохватившись прячет свои белые руки за спину. Но взгляд. Взгляд не спрячешь за спину. Не так глядят батрачки. Так может смотреть только … Как цунами накрыло Ивана понимание ситуации. Мать в земле всего девять дней, а постель родителя греет вот эта пышногрудая белотелая баба!
Видя приближение Ивана, Ксения умелась в избу. Сын схватил отца повыше локтя, там где только что трогала Ксения, и резко развернул к себе, пылая гневом.
– Батя! батя! ты как… – Иван не смог закончить. Ярость душила его. – Как?!!!
Отец смотрит пристально и молча. Во взгляде нет раскаяния и вообще эмоций. Долгую минуту два Коханка жестко играют в гляделки. Душевное смятение проступило красными пятнами и каплями пота на лице у сына. Он в сердцах отталкивает родителя, отрывая мысленно себя от него. Демьян не шелохнулся, словно врос в землю и какую-то свою правду, и на том стоять будет.
Из избы выскочили Егор с Николаем. Они замерли на крыльце, как два коня у пропасти. Иван вперил в них налитые злостью и бессилием глаза, мотал головой из стороны в сторону, мучимый вопросами, на которые один за одним сами собой приходили тяжелые ответы. Эти ответы гнули его к земле и не давали свободно дышать. Он рванул ворот на рубахе и с нее, как пули, полетели пуговицы.
– Аня! Аня, где ты?!
– Я туточки, Ванечка, – Аня растерянно вытирает руки об фартук, переводя взгляд с отца на брата.
Ее ласковый голос, так похожий на материн, ни капли не успокоил. Зато шквал горячих эмоций сменился рассуждением и желанием действовать.
– Собирайся! Немедленно собирайся – холодно приказал брат.
– Куда? Зачем?
– Мы уезжаем с тобой ко мне, в Краснодар.
– Сейчас?
– Немедленно
– Ваня, як же так? А поминки по матушке?
– Здесь о ней зазорно и поминать
– Да як же зазорно? Тады где же?
Аня переводила взгляд с Ивана на отца, с отца – на Егора, с Егора – на Мыколу, но никто не подсказывал ей, как быть. Она поняла, сейчас нужно принять, возможно, самое важное решение в жизни. И сделать нужно самой. Никто не подскажет, никто не обоснует, что дескать, вот так хорошо, потому-то и потому-то, а так – по эдакому. Взрослая жизнь неожиданно обрушилась на нее. Ей хотелось забраться на полати и там отлежаться, пока все не закончится. А еще хотелось положить голову на колени к маме. Но мамы больше не было.
Аня выдохнула и пошла в дом. На крыльце безмолвно, в тревоге стояла Ксения. Аня сильно и намеренно задела ее плечом, втолкнув обратно в сенцы.
Ай, божечки! – наигранно взвизгнула бабенка.
Девочка не обернулась, не повинилась.
Собираться в те годы было проще некуда. Почти ни у кого не имелось больше двух смен одежды. Одна – на каждый день, вторая – праздничная. Косметические средства для подростковой кожи, привычный кондиционер для волос, красивый халатик и любимые тапочки со зверушками, пижамка – все это напрочь отсутствовало.
Аня даже растерялась, когда решительно зашла в горницу. А что собирать то? Герань с окон? Мама так любила цветы и так не хотелось оставлять их Ксении. Но Аня не могла себя представить, отъезжающей на подводе с горшком герани в руках. Если бы она посмотрела фильм Леон, где герой таскал за собой фикус, возможно она бы прихватила кустик. Аня сложила юбку, пальто и две своих рубахи в красное одеяло, которое завязала узлом.
Отсутствие вещей для сбора поубавило решимость. Как уехать вот так от родного отца? Мама не осуждала его, хотя видела Ксению и понимала, что происходит. Все проходит. Пройдет и это. Бог все управит, как следует. Говорила она, глядя Анюте глубоко в душу, запрещая взглядом не то что осуждать, а вообще рассуждать на эту тему. Если мама не осуждала, то как смеет Аня? И что она, простая крестьянская девчушка, будет делать в большом городе Краснодаре?
Аня сидела на лежанке, обхватив голову руками. Той самой лежанке, на которой совсем недавно хворала мама. Девочка суетно соображала. Часы тикали набатом, словно поторапливая, а она никак не могла собрать разбежавшиеся мысли и на что-то решиться.
Как вихрь, ворвался старший брат.
– Готова?!
Аня отняла трясущиеся руки от лица и растерянно опустила их на колени, всем своим видом выражая нерешительность и непонимание, что делать.
– Демьян Степанович, Гетуны едуть, – услышали они с братом певучий голос отцовой полюбовницы, которая распоряжалась на поминках матери как хозяйка.
– Готова, – глаза сузились как щелочки, ручки сжались в кулачки.
Аня встала с лежанки, схватила узел и пошла прочь, не желая больше никогда возвращаться в дом отца.
Глава 11 Анна Андреевна
Краснодар, 1933 год
Анюта долго не могла прийти в себя после стремительного и тяжелого отъезда из Лобков. За окнами поезда зелень холмов и серебряных рек сменились желто-цветочной степью. Конца и края не было этому пейзажу, и Ане становилось все больше не по себе. Из воспоминаний не шел последний взгляд отца и вид их дома с алой геранью на окнах. Неужели она никогда не увидит ни тятю, ни родные Лобки? А братья? Егор? Николай? С ними как?
Тихая смерть мамы – удар какой не описать. И следом – потеря отца и полная сумятица мыслей. А вокруг снуют, как деловитые муравьи, незнакомые пассажиры. Некоторые из них, проходя, столь роскошно “благоухали” немытыми телами, что Анюта вздрагивала, как от нашатыря. Словно Бог-доктор хотел привести ее в чувство после жизненного нокаута.
В Краснодар прибыли ближе к вечеру. Сойдя с подножки поезда, Анюта застыла перед зданием вокзала. Большие витражные окна с отражением закатного оранжево-красного солнца и пурпурного неба остановили ее в немом восхищении. Белое одноэтажное здание с двумя достаточно скромными флигелями по бокам казались ей вершиной архитектурного творчества.
“Раз город начинается с вокзала, значит, это самое главное здание города. Раз самое главное здание города такое красивое, значит, и город красивый”, – настроилась на позитивное восприятие действительности Аня. Если бы она посещала психолога, он был бы ею чрезмерно доволен. Она в тот момент посещала вокзал Краснодар-1, и ее чуть не снес мерзкий грубый дядька с тележкой, полной тюков и баулов. “Поберегись!” – заорал он тогда, когда уже поздно беречься, судя по выражению мерзкой рожи лица, Аней он был чрезмерно недоволен.
Не зевай, сестра, чай не в Погаре на станции. Поторопись, мы дальше – на трамвай.
“Травмовай какой-то – только новых травм не достает”, – улетучивался позитивный настрой крестьянской девушки. Впрочем благостное расположение духа не замедлило вернуться, как только Анюта увидала “травмовай”. “А! Сын поезда, – маленький и не пыхтит, как старичок-поезд”.

