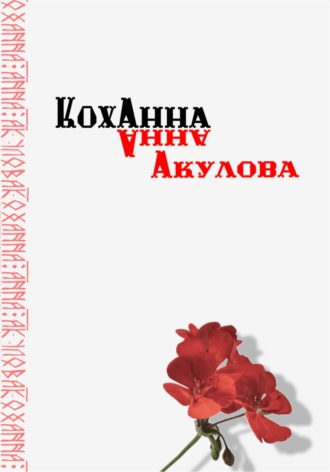
Полная версия
Коханна

Анна Акулова
Коханна
Глава 1 Мама
Посвящается моей бабушке Анне, чья замечательная жизнь вдохновила маму на мое имя, а меня – рассказать почему. А также миллионам судеб, в чьи жизни вмешалась война, в том числе, О. Тебя нет рядом. Ты всегда со мной.
1933 год, село Лобки Погарского района
“Не дождешься!”, – в сердцах подумала Аня. Горечь и обида за мать застучали молоточками сначала в груди, а потом – в висках.
Полуденное солнце ярким светом заявляло о своих правах на чудесный летний день. Домотканая кисея на окнах большой светлой избы пыталась сгладить его неуемный и неуместный сегодня напор. Подоконники густо уставлены горшками с геранью. Шапки алых цветов, пропуская лучи, пылали красным цветом, как будто поддерживая светило. Пылинки кружились в незамысловантом танце, как всегда немые ко всему на свете.
Со двора доносились привычные звуки. То вдалеке глухо замычит корова. То проедет где-то внизу по улице телега, скрипя колесам. То у самых сеней деловито закудахчет квочка. Как если бы она умела считать и неожиданно не досчиталась одного или парочки своих пищащих желто-пуховых наследников. Из палисадника вновь и вновь слышится деловитый баритон майского жука. Будто он, пролетая, сообщал всем, у кого только есть уши, последние новости с полей или откуда он изволил явиться.
День был как день. По-видимому, ни герань, ни солнце, и никто на свете кроме Ани не чувствовали и не слышали той тишины, которая тяжело заполняла светлицу. Тишину стало слышно сквозь все шорохи и звуки, доносившиеся со двора и из сеней.
День был бы как день. Если бы Аня не чувствовала кожей эту тишину. Если бы она не ощущала как безвозвратно становится взрослой, в свои четырнадцать. Прямо сейчас в майские ласковые дни. Когда хочется маленькой девчушкой бежать босоного по сочной траве с косогора прямо в прохладу реки.
День был бы как день. Если бы мама не смотрела на нее прозрачными сейчас, а когда-то ярко голубыми как васильки, глазами. Если бы только она привычно суетилась по хозяйству где-нибудь на дворе или в “холодной” избе. Вместо того, чтобы лежать здесь и наполнять горницу звенящей тишиной.
Низкие и тяжелые дубовые двери в сени и на улицу оставили открытыми. Чтобы прогретый солнышком воздух мог свободно течь по всей избе. Он приносил запах поздней разнотравной весны со двора, смешанный с ароматами бесчисленных пучков растений и корений, что висели в сенцах. Их каждый год собирала, сушила, переплетала, а потом развешивала в разных частях дома старенькая бабушка Анюты – Таисия.
В сенцы то и дело кто-то заходил, что-то перекладывал, перевешивал, открывал и закрывал сундуки. Зачем-то именно сейчас понадобилось бегать в “холодную” избу через общие с “теплой” половиной низкие, но просторные сени. Как будто этот кто-то чего-то ждал, каких-то новостей, но пройти в избу и спросить не решался.
Анюта сделала глубокий вдох, чтобы усмирить себя. Не здесь и не сейчас. В этой горнице нет места обидам, злости или ревности. Она заполнена скорбью и тихой грустью. Заполнена до самого верха. Как тяжелые сундуки в сенях заполнены всяким хозяйским добром.
– Мама, аль что хочешь? воды? – проговорила Аня, заранее зная ответ. Она взяла болящую за руку. Совсем легкая и такая бледная. Кожа на ней, как и на всем теле, слегка пожелтела. Вены как-то враз стали видны. Аня никак не могла понять, как получилось, что совсем недавно мама Маша носила полные ведра молока, с легкостью взбивала масло в тяжелой кадушке. А теперь с трудом держит чашку воды. И почему жизнь так стремительно покидает маму Машу. И почему она, Аня, никоим образом не может хоть чуть чуть замедлить это неестественное движение в Никуда.
– Спасибо доченька, – еле слышно, но внятно, без надрыва или жалости к себе прошептала мама. И от ее тихого уверенного голоса Ане стало спокойней.
“Может, все и обойдется”, – пронеслось в ее белокурой голове с золотистыми косами. Но от одного взгляда на мать мысль растворилась, как будто никогда не думалась.
Послышалась тяжелая и вместе с тем неуверенная поступь отца Ани – Демьяна. Через мгновение он показался в дверях горницы. Рослый, рыжеволосый и коренастый, как молодой бычок. Два года как Демьян Сипейко разменял седьмой десяток. Но если не заглядывать в метрику, ни в жизнь не угадать, сколько ему лет от роду.
Коханки издревле были моложавыми, крепкими и, что греха таить, любвеобильными. “Божьи любимчики” – то ли с завистью, то ли с любовью называли род Сипейко на селе. Сильные и зажиточные обычно вызывают восхищение – у сильных и зажиточных. И зависть – у мелких духом людей.
Зайдя в горницу, отец, уставившись в Красный угол, потянулся сложенными перстами ко лбу, чтобы проделать привычный десяткам поколений брянских казаков нехитрый ритуал. Но с пальцами у самого лба Демьян вспомнил, что сейчас 1933 год, и что село Лобки уже два года как превратилось в колхоз Красные Лобки, и что в Красных Лобках не крестятся. Он вроде бы раздумал осенять себя крестом в присутствии дочери. “А ну как прилепится привычка, да дите где-нибудь в сельсовете истово закрестится”, но через еще мгновение не удержался и перекрестился. “Отходит моя Машенька, – подумал он, – черт с ним, с сельсоветом”.
– Как она? – по привычке властно изрек Демьян. Но почему-то дальше мАтицы (Матица – центральная горизонтальная балка под потолком русской избы. Она условно делила жилище на две равные части, до нее – гостиная-коридор, а после – пространство строго для своих – здесь и далее Прим. автора)в светелку не прошел, а остановился в собственном доме как чужак, ближе к сенцам.
– Все то же, батюшка. Все то же – заверила Аня. За что получила благодарный взгляд мамы, от которого защемило сердечко. Молоточки снова застучали в висках и в глазах стало едко.
– Все то же – энто хорошо. Резонно и по-хозяйски вывел отец. Тон его говорил “сделаю вид, что я верю, что все хорошо. Но было бы здОрово, если бы это была правда. Было бы правда здОрово, донюшка. Не моя вина, что все так образуется.”
Вслух он такое никогда бы не произнес, не повинился, Аня тонко чувствовала его переживания и без слов. Чувствовала, а умом не верила. Из “холодной” избы послышался звон упавшей крынки и непроизвольный возглас Ксении “Ай, Божечки!” Голос мелодичный звучный и предательски здоровый. Такой, какой и должен быть у молодой пышногрудой и полнотелой крестьянки. Такой, который тяжело простить, когда ты держишь невесомую руку умирающей матери.
– Все проходит, доченька, пройдет и это. Всегда все к лучшему, – мама словно извинялась за отца, как будто было что-то давнишнее между ними, что прошло, и теперь наступила ее очередь прощать.
Аня хотела быть такой же мудрой и терпимой, как мама, силилась, не понимая до конца, принимать уготованное судьбой. Молоточки застучали по наковальне в висках. Как бы Аня хотела смотать веретено времени. Хотя бы на одно мгновение назад. Чтобы Ксения ничего не роняла и не кудахтала красивым голосом, напоминая о своем гадком присутствии в отчем доме, всего в нескольких саженях от лежанки укрытой красным одеялом матери.
“То-то будет, когда Иван приедет. То-то будет”, то ли с опаской, то ли со злостью плюхнулся в озерцо ее обиды камешек. И когда мысль разлилась в воображении в полную картину приезда старшего брата, маминого любимчика и заступника, молоточки в висках устроили настоящую революцию, а голубые глаза Анюты наполнились страхом. Страхом преддверия чего-то ужасного и непоправимого, а главное – неизвестности. А это самый сильный страх. Сильней него только страх смерти.
– Ксения на стол собрала, – не терпящим возражений тоном сказал отец.
– Иду, папа, – сказала Аня, вставая с лежанки, немного удивленная тому, что вместо батюшка или тятя зачем-то сказала “папа”. Хотя чему удивляться, если каждую минутку тратишь на чтение книг, а они то и дело о дворянской да о купеческой жизни, в которой барышни кличут тятю папА. Гораздо более удивительно, что отец пришел позвать ее к столу.
Глава крестьянской семьи обычно никого за столом не ждет и уж точно не бегает обеденным глашатаем. Если бы он пришел позвать ее к столу месяц назад, она наверное от изумления не смогла бы сдвинуться с места. Но за последний месяц в их семье произошло много событий, не помещающихся в сундучок обыденности. Анина душа ими напиталась с лихвой и попросту устала удивляться.
Она молча и покорно шла, не ощущая голода и стараясь не замечать, что вокруг стола и отца хлопочет Ксения. Ее наняли помочь по хозяйству после того, как слегла мать. Анюта не сразу обратила внимание на ее женскую манкость. При первом взгляде на Ксюшу девочка про себя заметила, что грудь и руки жинки полные и мягкие, как у попадьи. Лицо, почти не тронутое солнцем и морщинами, излучает здоровье и ласковость. Кисти рук при этом большие и натруженные, босые ноги – в мозолях и натоптышах. Словно верхняя часть Ксении была из одного человеческого набора, а нижняя, примерно от пояса – из другого. Аня еще попыталась тогда представить вместе оставшиеся части Ксениного наборного тела и улыбнулась. Явившаяся воображению женщина с изящными ногами, тонкими пальцами и грубым крестьянским лицом была гораздо смешнее настоящей Ксении.
Через время оказалось, что нанятая в хозяйство женщина готова брать ночные сверхурочные и выполнять не только обязанности батрачки. Было еще одно амплуа, как сказали бы театралы, бесстыдная очевидная роль. Неясно было одно: как такое вообще может быть на глазах у всего села и домочадцев! Ох, Коханки!
Глава 2 Бабушка Коханиха
То же село Лобки, но гораздо раньше
Кто и за что окрестил Лобки Лобками доподлинно неизвестно. Вполне вероятно их так величают за мягкие выпуклости – не то пригорки, не то пологие холмы – ни дать ни взять – лобок на красивом земном зеленом теле, усыпанном луговыми цветами и испещренном серебром неглубоких разливных рек.
Имя поселения сохранилось еще с семнадцатого века, когда здесь хозяйничал шляхтич Рачинский панского польского рода. Так бы и хозяйничал пан, да в середине века вскипело восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, главным образом, из-за веры. Речь Посполитая освящена католическим четырехконечным крестом, а Стародуб, Погар, Почеп, Мглина тяготели к восьмиконечному православному. В 1654 году жители Погара, к которым относились лобковчане, присягали на подданичество русскому царю.
Если глянуть на карту России века двадцатого, то в западной части видно будет небольшой отросточек в виде головы акулы-молота. Застряла эта акулья голова между Белоруссией и Украиной, словно сунулась поглядеть, что у соседей делается. Лобки будут примерно на шее у этой акулы, если, конечно, у акул есть шея, что весьма сомнительно. То что есть Лобки, слава Богу, сомневаться не приходится.
Дом Коханков громоздился на выпуклом пригорке, на одном из “лобков”. Огромное крестьянское хозяйство растянулось вплоть до самой речки. По весне ее воды бурлили, как будто что-то варится. Так она и значилась с незапамятных времен – Варенец. А местные ласково называли ее Вареник.
На противоположном “лобке” красовался пряничный домик церкви. Чистенькая и беленькая, с четко очерченными синими куполами на фоне хрустального неба и зеленой травушки-муравушки церквушка так и просилась на холст. Если бы сюда телепортировался или приехал своим ходом Репин, то не удержался бы и кинулся ее писать. А потом бы увидел как чуть выше по речке приветливо и без устали машет лопостями-ручищами мельница. Илья Ефимович бросил бы незаконченный пейзаж с церковью. Побежал бы знаменитый “передвижник”, сломя голову, на телеграф, коря несовершенство действительности за отсутствие Интернета, соцсетей и смартфонов. Как было бы чудесно передать картинку в одно мгновение, но увы! Уставший и взмокший, он телеграфировал бы Шишкину, промакивая испарину белым батистовым платочком. “Иван Иванович, милейший, срочно закладывайте шестерку лошадей и всенепременно мчитесь в Лобки, что в Орловщине в нескольких верстах от Погара. Я вам такую мельницу уготовил, такой пейзажик, что вы ахните!” И ждал бы Шишкина, борясь со жгучим желанием изобразить излучину Варенца с мельницей самостоятельно (Правда в том, что в 1870 году художники Илья Репин, Иван Шишкин вместе с Иваном Крамским, Василием Перовым, Николаем Ге, Григорием Мясоедовым основали Товарищество передвижных художественных выставок. Правда и то, что Репин и Шишкин были приятелями. Но подыскивали ли они друг другу пейзажики – об этом автору ничего не известно. Известно то, что художники-передвижники искренне желали познакомить простых людей с искусством и красотой).
К сожалению, среди обитателей Лобков не было сколько нибудь значимых художников и хранились лобковские красоты исключительно в сердцах сельчан, в той папочке что называется “Родные просторы”.
Помимо отсутствия художников в Лобках наблюдалось отсутствие врачебного участка. Ближайший земкий доктор квартировался за 10 верст в Погаре. Одним из неоспоримых достоинств доктора было то, что его услуги были безкоштовны, то есть – даром. Оплачивало работу врача земство. Хотя ни один из болящих не смел прийти без копеечки или какого-нибудь подношения. К недостаткам врача любой профессиональной пригодности относилось то, что он был один на несколько тысяч человек и мог оставаться по несколько дней на каком-нибудь хуторе у богатого больного. Попасть на прием было не просто. Ездили к земскому доктору в случае крайней нужды.
Врачей в селах долгое время заменяли бабки. Услуги добровольного заместителя были не бесплатны. Бабке, независимо от возраста, полагалось “серебрение” или подношение в виде хлеба, яиц, платков. Обитатели Лобков Погарской волости чаще всего обращались с недугами к Таисие Коханихе, потомственной ведунье, знахарке и повитухе.
Высокая, осанистая да по молодости фигуристая, она была взята в жены Степаном Коханком. Жениться на ведунье – смелый шаг, граничащий с легким слабоумием и, так сказать, недальновидностью. Видит ведь насквозь. Но Коханки – на то и Коханки, чтоб жениться по любви на самых красивых девках. Не взирая на прошлое, место в деревенской иерархии, бедная или зажиточная. Единственное, что имело для них значение – внешняя и внутренняя красота девушки.
Бог любил их род. Посылал в наследники здоровеньких ребятишек, по преимуществу мужского пола. А по старой системе наделы земли под угодья выдавались по количеству сыновей. И так из года в год, из поколения в поколение хозяйство Коханков ширилось да прибавлялось.
На Брянщине не приняты загородки. Дом, амбар и другие хозяйственные постройки ничем не ограждены и видимы со всех сторон. Как и жизнь каждого обитателя, как принято в сельской местности.
Если спуститься вниз от дома Коханков по широкой и некрутой тропе, то попадешь к запруде. Здесь сельские бабы с верхних Лобков тяжелыми вальками выбивали замоченное в кадушках с щелоком белье. Выбивали и полоскали тут же, в речке. Помимо белья, как водится, полоскали всем без исключения соседям кости. Мокрое белье приносили и уносили хлопцы, стараясь унести ноги до того, как попасть на язык говорливым девкам да бабкам. Хохот перемежал добродушные смешки с незлобивой руганью, потом вновь хохотали. Запруда могла бы именоваться Парламент общин или Главное министерство сплетен. Но сельчане не знали столь пышных фраз и кликали место Рукав.
Век уж целый год как сменил старое платье на новое. Конца света при смене эпох, как пророчил батюшка на вечерней службе в “пряничной” церкви, не произошло. Поговаривали, что графа Льва Толстого отлучили от церкви (Постановление Святейшего правительствующего синода, в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не является членом Православной церкви, так как его убеждения несовместимы с таким членством. Опубликовано в официальном органе Синода «Церковные ведомости», полное название документа: «Определение Святейшего Синода от 20-22 февраля 1901 года № 557, с посланием верным чадам Православной Грекороссийской Церкви о графе Льве Толстом»)и что была зачем-то студенческая демонстрация, но по совсем другому поводу. Что-то творилось в столицах и городах, что-то приготовлялось. А жизнь в Лобках текла своим чередом, как много веков назад. За зимой налетела громогласным ледоколом весна. Птичье царство с зарей спорило шумностью с ледоколом. Птахи проигрывали в громкости, но брали за душу мелодичностью.
Был весенний погожий и ласковый день. Вареник совсем уже сменил ледяной панцирь на подвижную сверкающую на солнце чешую. Казалось, что все вокруг наконец-то проснулось от зимней спячки. Таисия вместе с другими селянками гутарили на Рукаве о том о сем, полоская белье. Пришел черед вымывать от щелока тяжелые тулупы да полушубки и женщинам было не справиться, не вытянуть из запруды напитавшиеся водой шубы. Зато плечистый Демьян Коханок справлялся легко, выбрасывая на берег увесистую мокрую одежду, как кот мелкие рыбешки.
Краем глаза Демьян заприметил тонкую фигуру девушки, спускающейся по косогору к Рукаву. Он распрямился, отер рукой пот со лба и не стесняясь встречал глазами идущую. Мать Таисия проследила за его взглядом и тоже обернулась на девку, предчувствуя почему-то худое. Мария Колыванова. “Байстрючка (Байстрюк – внебрачный ребенок, незаконнорожденный)” – зашептал и зашевелился Лобковский Парламент. “Мать пропащая и она туда же”, – уловила Таисия Афанасьевна. Взгляд на сына. “Только не она!” – пронеслось в голове матери и одновременно звучало “Поздно. Пропал сын”.
– Доброго дня! – поздоровалась не умеющая читать мысли Маша.
– Доброго, доброго, – закудахтал Парламент.
Василькового цвета глаза спорили красотой с небом. Румянец на высоких скулах звал прильнуть к щеке. По крайней мере именно так казалось Демьяну. Он как будто впервые увидел и разглядел по-настоящему Машу Колыванову. Как так случилось, что он не замечал ее девичей красоты раньше, он не мог сообразить.
– Держи! Держи! Кафтан уплывает! – загалдели бабки, как будто криком можно было замедлить отплытие крейсера “Зипун Кафтанович”.
Демьян опомнился, потянулся за медленно тонущим кафтаном, вытянул жилистую руку что было мОчи и плюхнулся в ледяную реку.
“Конфуз-то какой!” – вылезая из воды с коричневой мокрой добычей в руках, сокрушался в сердцах Демьян.
Когда стало ясно, что никому не угрожает опасность, ни белью, ни Демьяну, Министерство сплетен дружно захохотало. На селе не так много всего происходит, чтобы упустить возможность вдоволь посмеяться над ближним. Не упустила эту возможность и байстрючка Колыванова. Ее заливистый смех казался Демьяну самым певучим. Вот остальные ржут как лошади в поле, а Машенька одна звенит, как колокольчик степной.
Не смеялась только Таисия. Совсем не потому что боялась хвори. Эка невидаль в холодную воду окунуться. Это не беда, это Бог с ним. Пропарили мужика в баньке да с веничком дубовым – и ни одна зараза не подступится. Сердце матери чуяло другое, недоброе и неотвратимое. Уж она то умела читать мысли и глядеть будущее. Это ж надо такому случиться. Столько лет перебирать невестами точно еврей шелками на ярмарке, разменять четвертый десяток и бах! положить глаз на чужую девку.
“Ох, беда, беда!” , – сокрушалась Таисия глубоко внутри себя, ни одним мускулом не выдавая, что творится у нее на душе.
Кафтан был спасен. Демьян вышел из реки и струйки воды стекали по его рыжим волосам, телу и прилипшей рубахе.
Маша поставила тяжелую корзину с бельем, заправила выбившиеся из под полушалка золотистые как пшеница волосы. Давно она так не смеялась. Ей было гораздо привычней, что смеются над ней. Они с матерью жили вдвоем. Отца никогда не видела и не знала. Байстрючка, одним словом. Поговаривали, что он – заезжий гость поручика Наврозова. Дескать, гостил одно лето, спортил Глашу и, как водится у господ, был таков. Мать сказывала, что он уехал на войну аглицкую, но почему-то в Азию, к бусурманам. Маша спрашивала у учителя в сельской школе, тот показал где Англия и где Азия. И Маша сделала поспешный вывод, что малограмотная мать все выдумала, причем не очень-то складно (Англо-русская война (1884-1885) – вооруженный конфликт между Российской империей и Британией. Боевые действия велись, в том числе, на территории Средней Азии. Итогом сражений тех лет стало установление британского протектората над Ачехом и Тибетом). А отец скорее всего где-то рядом, может даже кто-то из усадьбы. Знает ли он, что у него растет дочь, приедет ли когда-нибудь да попросит у них с матерью прощения. Такие мысли нет нет да подкрадывались. Как, наверное, у всех до единого брошенных детей.
– Ого какая корзина! Полна полнешенька. У вас с Глашкой и добра то столько нет. Признавайся, чьи портки приволокла на запруду. За деньги аль задаром стирать думаешь? – начала упражняться в острословии Настасья Крынкина, рябая от усыпавших лицо и тело веснушек бойкая девица. Про таких говорят “палец в рот не клади”.
– Хошь заплачУ – простирнешь и мое исподнее? – присоединилась бабка Агафья из Ельцовых, делая вид что скидывает с себя одежу.
Маша спокойно и без лишних эмоций делала то, зачем пришла на реку, не обращая ни на кого внимания. Как будто она была в каком-то слюдяном домике, и все смешки и шуточки стекали по его стенам. Правда была в том, что белье она принесла не свое, а людей, у которых работала мать. Об этом мог бы догадаться любой человек, если бы пораскинул своим умишком. Но не всем жителям Лобков было чем раскидывать.
– Нет, глядите только, она и ухом не ведет. Уж простите, королевишна вы наша, что мы к вам без поклона.
На Рукаве поднялся хохот пуще прежнего. Но теперь не смеялись три человека, двое – из Коханков. Демьян поднял мокрый картуз с земли, помял маленько и вдруг метко швырнул его в Настасью. Попал прямо в ее рябое с оспинами лицо. Хлопок был пренеприятный, но девка не охолонула.
– Глядите, люди добрые, на Машку зенки пялил, да чуть не утоп, кафтан чуть не схоронил. Уж не его ли портки у Машки в стирке?
– То то он переживает, – не унималась Агафья – Мабуть, в речку сиганул, чтоб ей меньше работы, на себе думает рубаху да портки простирнуть ха-ха-ха по-быстрому.
– Ну будет вам, бабоньки, будет, – степенно закончила стендап батл Таисия.
Ведунью никто сердить не планировал и Парламент перешел к рассмотрению других насущных вопросов.
Пойдем сынок баньку топить. Как раз собиралась, – заключила Таисия, укладывая свой мокрый скарб и желая увести великовозрастного сына от байстрючки подальше и как можно скорее. Демьян играючи подхватил тяжелую корзину и, проходя мимо Марии, услышал робкое “благодарю” и почуял прикосновение ее руки к своей, чуть выше запястья.
Он вздрогнул, как от ожога. Вверх по руке побежали мурашки. Все тело сковало, и парень еле смог двинуться за матерью, которая необычно шустро неслась домой. Что за музыка ее голос! Как лелеял ухо ее шепот, точно плеск воды в жаркий день.
“Баран! Ох и баран же я! Надо же было сказать что-то в ответ. А может вернуться?” – в каком-то оцепенении размышлял Демьян.
– Демьян! – Голос матери вернул его назад, в село Лобки Погарской волости.
– Мамань, что вы как на пожар летите?!
– Тебя, горемычного, отогревать. Поди озяб весь!
“Ну точно – олень я замороженый! Вернуться бы надо. Ан нет, будет повод в гости зайти”, – повеселел и “разморозился” бесповоротно влюбленный олень.
Через несколько минут Демьян затапливал баню, а Таисия подбирала травки для отвара, чтобы сын не захворал.
“Ох и выбрал! Тридцать лет жил да выбирал! Ох порадует батюшку!” – крутилось в голове у ведуньи. А губы шептали на ветерок остуду “Сердечный змей, извейся, изыди, твоя воля пусть по ветру развеется, сердце перестанет маяться, а душа перестанет скорбеть…” Но сердце матери знало, что против истинной любви остуда не подействует, а против любви Коханка и подавно. Знала она этот взгляд, что был сегодня у старшего сына на реке. Ой, знала. “На то и Коханки! На то и Коханки!”– принимала то, что не в силах изменить никакая ведунья, Таисия Афанасьевна Сипейко.
Она вспомнила свое сватовство, вспомнила как Степан точно также увидел ее, обомлел и порешил, что она будет его. Вспомнила Таисия, как весь мир был против. Как покойница свекровка костьми хотела лечь и “не допустить в дом ведьму”, а его отец знай приговаривал “На то и Коханки! На то и Коханки!” И свадьба состоялась. С жареным поросенком, протяжными да веселыми песнями и всем что причиталось в добротном хозяйстве на веселой деревенской свадьбе.
Глава 3 Глафира Евсеевна
После неспешной баньки с матушкиными травами и взварами, весь чистенький и напоеный силой да удалью, Демьян в который раз вспомнил о Маше. Ее хрупкая фигурка, спускающаяся по косогору к Рукаву, робкое прикосновение и нежное “благодарю” прокручивались в голове, как смотрят понравившееся видео в соцсети его правнуки.

