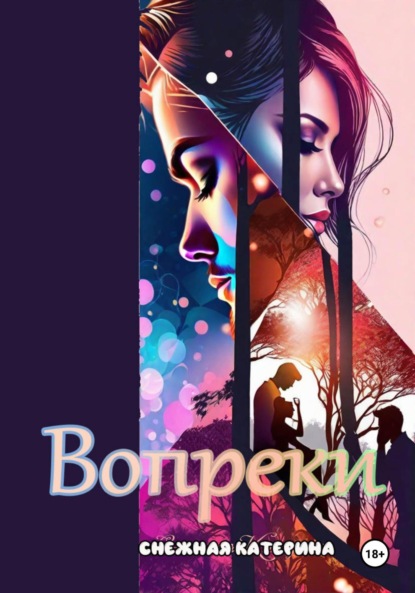Полная версия
Цветущие вселенные
– Забери снимок! Илья! – визжала мадам, не жалея дорогостоящих французских кружев и каштановых кудрей.
Каким-то образом пластина отлетела к ногам девчонки. Она наклонилась, подобрать, и в этот момент на нее бросился великий князь. Руки мужчины оказались на шее, и та понимая, что ее душат, извернулась. Она сначала надавила ему на глаза, а когда смогла освободиться, повалив его на спину, вцепилась князю в шею, не осознавая, что творит.
Оглушительный визг мадам и вода из кувшина привели Руну в чувства. Почему-то она оказалась в руках Ильи, успевшего оттащить ее в сторону.
Комната замерла в ледяном ужасе. Руна, вся дрожа, разжала пальцы – под ними кровь, на шее князя, уже проступали сине-багровые отпечатки её хватки. Его лицо, ещё секунду назад пунцовое от смеха, теперь было цвета мокрого пепла. Глаза выкатились, рот открылся в немом крике, и тонкая струйка слюны вытекла на дорогой персидский ковёр. Мадам Данишевская издала звук, похожий на лопнувшую струну – не визг, а что-то худшее, предсмертное.
Илья стоял неподвижно, как каменный идол, но его глаза сузились до щелочек. В них не было ни ужаса, ни радости, только холодная ясность опыта, оценивающего новую расстановку сил. Его пальцы непроизвольно сжали Руну за плечи, оставляя синяки, которые проступят завтра. Кровь князя неторопливо заполняла узоры персидского ковра, превращая голубые лотосы в фиолетовые
– Я не хотела, не хотела, – лепетала девчонка, наблюдая, как кровь растекается густым киселем. Горит перед глазами багровой лужей. Она задыхалась. Её голос звучал как скрип несмазанных качелей. Смотрела на свои ладони – те дрожали, но странным образом оставались чистыми, без единой капли крови. Её альбиносная кожа под рыжими локонами казалась теперь прозрачной, как у призрака.
В следующий миг малышка увидела бросившуюся к ней обезумевшую мадам, в испуге отпрянула назад на Илью, вероятно думая, что к ней, так откровенно возлежащей на голом любовнике. Но та бросилась к нему, обхватив его за голову.
– Мы свободны! Илюша! Илюшенька, – шептала она, залезая на колени, целуя его и игнорируя между ними малышку. – Ты получил наследство, я свободу!
Один из троих мужчин, перезарядил фотоаппарат новой пластиной и сделал снимок. Мадам замерла, обернулась, перевела обезумивший взгляд на Илью, начав трястись:
– Забери. Забери сейчас же! Охрана. Охрана!
Мужчины убегали, унося с собой доказательства и скандальный снимок с места смерти великого князя.
– Вызывай врача, – велел Илья, скидывая с себя любовницу и поднимая на ноги ослабевшую и едва стоящую от горячки Руну. – Зови будочника.
Скандальный снимок напечатали в трех столичных газетах. И если Руну судили и отправили на каторгу, то Илью наказали.
Вины его не было, но в силу сложившейся непристойной обстановки, сам император пожелал строгой кары. Дабы его офицеры не допускали подобных стечений ситуаций. Его не уволили, назначили тайным офицером этапного конвоя. А это все равно, что на каторгу сослать. Выводы все делать умеют, в том числе и Илья. Не будь завещания и наследства, а главное титула, что оставил якобы папенька, его бы наказали не меньше девчонки.
Кабинет следователя, тускло освещённый керосиновой лампой и Руна сидела на краешке стула, её рыжие волосы, некогда яркие, теперь казались выцветшими, как старый гобелен. Через зарешечённое окно лился холодный свет – тот самый, что бывает только в московские ночи, когда даже тьма не может скрыть грехи. На столе перед ней лежали газеты с тем самым снимком: её испуганное лицо, полуобнажённая мадам, Илья с хищным оскалом. Заголовки кричали: "Скандал в княжеских покоях", "Убийство или несчастный случай?". Но ни одна газета не написала правды – что её пальцы сжали княжескую шею с силой, которой не должно быть у хрупкой девушки. Это все, что ему запомнилось.
А позже Илья стоял у двери, в новом мундире этапного офицера. Серость шитья тускло поблёскивало – будто насмешка. Его глаза, теперь полностью человеческие, смотрели на Руну без эмоций. Только лёгкий тремор в левой руке выдавал ярость, которую он подавлял. Он знал: приговор – месть императора за то, что волк посмел войти в высший свет. Люди часто видели ангелов животными. Посвященные принимали их за оборотней.
Тюремная карета с грохотом катила по мостовой, увозя Руну во тьму. Через маленькое зарешеченное окошко она видела, как Илья стоял на крыльце суда – высокий, прямой, в новом мундире с аксельбантами. Его лицо было каменной маской, но пальцы сжимали фуражку так, что кожа на костяшках побелела. Они не простились. Не сказали ни слова. Только в последний момент, когда карета уже трогалась, его губы шевельнулись, словно посылая беззвучное: "Жди…"
А в это время на перроне Николаевского вокзала мадам Данишевская, вся в чёрном крепе, сжимала в руках билет до Парижа. Её горничная суетилась с багажом, куда были бережно упакованы траурные вуали, жемчуга и… несколько пузырьков с прозрачной жидкостью – тем самым ядом, что когда-то капали в вино старому князю. Она оглянулась на город, который теперь принадлежал Илье, и улыбнулась. Европа была всего лишь передышкой. Она вернётся. Обязательно вернётся.
Глава 2
Илья смотрел, как ползет этап.
Арестантский отряд проходил с верховыми казаками впереди и солдатами по бокам сельский погост с выщербленными крестами. Вокруг них обвалилась прогнившая ограда. Мимо бесчисленных могил, на одной из которых лежал человек.
Упавши на грудь, он издавал стоны сквозь тоскливые всхлипы. Пел могильным плачем. Колодники, чей тупой звук кандалов разлетался по деревенской улице то едва слышно, то громко подхватили его боль, и дружно затянули заунывную песню. У Ильи сделалось в груди тяжко, положительно жутко и неловко. От стонов-песни веяло чем-то сиротливым, щемило сердце и представились места, откуда нет людям возврата. Жрет тело там замогильная сырость. Давит мрак казематных стен душу. Свинцовая тяжесть неволи выедает остатки последнего святого в разуме. Сибирь. Такая темная. Чужая. Безликая. Сырые земли здесь были настолько необжитыми, что даже ангелы в них не заглядывали.
Шли намеренно медленно. Арестанты переставляли едва ноги в тяжелых пятифутовых цепях, выводя артельную песню таким образом, чтобы голоса сливались в один гул мольбы. Тот проникал в сердобольные сердца, погружаясь вслух и чужое внимание, заставляя задумываться обывателей о доли горемычно-просящих. Пели громко, боясь сфальшивить, выронить хоть слово, бережно и торжественно ради сбора подаяний.
Илья ходил рядом с конвоиром, и тоже открывал рот. Путь предстоял не близкий, и посему подать не казалась лишней хоть харчами, хоть деньгой. Сбитые в партию в Москве, за тюремными воротами они шли в основном этапными дорогами уже месяц. Срок достаточный, чтобы сформировался артельный костяк, а по грязи под холодными ветрами обострились у арестантов болезни.
Он шел в своей связке, слушая гром цепей и время от времени на этапных зданиях уходил в лес или деревню. А кому и зачем не отчитывался. Особо выгода случалась на этапных кабаках. Их держали местные офицеры. Унтер-офицер не имел права отворять замка, пока в дороге. Но это ж официально! А в жизни и не требовалось. Исхудавшие, ободранные, голодные, через месяц любой этапный мог выскользнуть из кандалов. Илья подходил и испрашивал высокоблагородье дозволение. Терпел, свою поганую роль, зная, что конец близок.
В деревне, где они пели, распавшейся вдоль берегов, подати слались щедрые. Граница Сибирии начиналась. Всем приметно, где заканчивалась денежка-молитва, острая как бритва и несли разносолы.
Нищенствующие арестанты и хлебной жертвую довольны молились, насшибали копейки ранее. А в этом месте начинались территории староверов, и те верой могучей, в то, что рука дающего не оскудеет дачей, по-старому отцовскому обычаю жертвовали ссыльным, дабы усладить тяжелые дни горемычных.
– Подсоби чуток, – подобралась к нему Иванна, чем платок снятый и превращенный в узел для сборов сегодня был полон. Сунула по-хозяйски в руки и с плеча второй сняла.
Он не стал возражать.
– Эх, дурак ты, – мужики гикали. В его связке шли еще трое. – Молодка та-ка, собой других почище.
Илья молча, смотрел вслед. Иванна верно говорят, молода, пышна, розовощекая, волосы кудрявые так и лезут на глаза черные, как у лисы.
– Саму лутчу пору, нету у ней запору. Не вороти нос, – советовали бывалые.
– А то ж гляди, терпеть до города, там дурех, цена полтина.
– Да, ты мож обижен природой?
– Закрыли рты, рвань, – рявкнул солдат.
Он сравнялся с их связкой, косым взглядом скользко срезал по узлу в руках Ильи.
– Иванна баба не промах. Ямочки на щеках вох-вах какие. Играет девка, подать успевай собирать. У тебя, там это?
Тот пожал плечами.
– Шаньги, яйца, и похоже кислое молоко.
Улыбнулся рядовой.
– Эх, – выдохнул. – Хороша бабец.
Илья стиснул зубы так, что челюсть свело судорогой. Где-то под рёбрами заныло – не рана, не болезнь, а что-то глубже, будто кто-то копался в его внутренностях тупым ножом. Он видел, как под грязным платком мелькнул рыжий локон – выцветший, но всё ещё яростный, как осенний лист перед тем, как сорваться. "Чёрт возьми, она же худая, как зимний волк", – пронеслось в голове. В носу защекотало – он чуял её запах даже сквозь вонь гнили и пота: чернильные орехи и та самая дикость, что когда-то заставила его сглотнуть слюну в княжеской спальне. Он лишь провёл языком по зубам, реагируя на ярость. "Чем питается?.." Да если б он хоть на минуту отпустил поводья своей природы.
– Все милашу высматриваешь, – Косолапов хрипло засмеялся, плюнув под ноги. Его жирные пальцы теребили чётки – подарок какого-то монаха за "богоугодное дело" по этапу. – Она не ангел.
Илья не ответил ему. Тот все же мужик из крестьянских, из краев Забайкальских нищих и убогих, настолько что возбуждала сострадание в проезжих. Вырвался в Москву, хотел копейку нажить, кусок свободы урвать. Прогорел Михайло. Так сильно прогорел, что не имел возможности достать хлеба на предстоящий день. На воровстве и повязали.
Илья промолчал, сплюнул в сторону. Здесь бессовестный произвол стал обычаем, слабости не прощались.
А затем замер. Его крылья – невидимые, сломанные ещё в той войне, что люди называют Крымской – дрогнули под мундиром. "Ангел…" Как же он ненавидел это слово. Они все видели в нём волка, чудовище, а не того, кто когда-то стоял у Престола с мечом в руках. И теперь эта девчонка с глазами, как два куска сибирского кедра , могла быть ключом к переходу – тому, что сводил с ума императорских агентов полвека.
Иванна потянулась к его сумке с провиантом, её пальцы – удивительно пошлые среди всеобщей грязи – скользнули по ремню. Она знала, что делает. В её улыбке было что-то нехорошее, чего не должно быть у девки: знание, как шепчется камыш на ветру, как пахнет кровь.
– Илюшенька, давай ты, – улыбнулась ему по-девичьи, довольная подаяниями. – На привале подходи.
Илья сжал кулаки, чувствуя, как под кожей шевелятся перья – те самые, что когда-то были белее снега, а теперь почернели от человеческой крови. Его взгляд метнулся между Иванной, копающейся в сумке с уверенностью давней любовницы, и Руной, которая шла позади колонны, спотыкаясь о собственные кандалы. "Боже правый, она же еле ноги волочит", – пронеслось в голове. Но в каменных записях чётко значилось: "Убийца с руками альбиноса" – а у Руны пальцы были именно такими, бледными, как кости, торчащие из могил.
Иванна хихикнула, доставая из сумки кусок сахара – пир для этапных. Её зубы блеснули, слишком острые для человека. "Да тебя тронуть – всё равно что сунуть руку в волчью пасть", – подумал Илья. Но Руна… Руна была другой. Она могла задушить князя в припадке ярости, но теперь, после двух недель голода, её силы таяли, как снег в апреле. А этап только начинался. До Омска – три месяца пути. Три месяца, за которые можно либо найти икону, либо похоронить носителя тайн Анубиса.
– А мне красавица, дашь чего? Я трудолюбивый, хвала твоей красоте, я же тебе свою покажу, – разулыбался его собеседник.
Тяжело Иванне было держать в двух руках узлы, но все-таки обернулась, косу отбросила.
–Так ведь, он у тебя эка трость у нищего. Красоту он мне покажет. Коса моя толще будет!
Бывший купец взорвался, грудь колесом вывернул.
– Да, не затоскуешь ты! Я ж благодарный бываю, знаешь какой?! В моих краях маслицем до сыто жить будешь! Тебе надобно полежать, посжимать пятерней. Вон, какие ладошки!
Та хихикнула, плечами пожала, на Илью бросила игривый взгляд. Мол, чего скажешь? Снова посмотрела на сыскавшегося ново ухажера.
– Варвара вчера сказывала, как твой воин лишился сил, – засмеялась. – Пал и голову склонил. Так что ищи утешения в грубой длани своей, авось господь смилуется!
Мужики заржали в окружении. Купец покраснел мухомором, но смолчал, губы поджал, наблюдая, как девушка пошла к своим.
– Врет, все, – буркнул он. – Врет.
– Ты бы поостерегся, – Илья задумчиво посмотрел вслед.
Купец вскинулся, покраснел сильнее.
– Тоже потешится хочешь?
– Конвойный говорит, она здесь за убийство отца. Придушила платком. Вот тем, в чем несет дачу. Не просто девка, для тебя барыня.
Илья усмехнулся, глядя, как тот осекся и молчит, глядя вслед Иванне.
–Так ты за безумную переживаешь? – догадался Косолапов.
Илья кивнул. Да, переживает. С оборотнями никогда не бывает просто. А когда такие вот брошенные, как она – никогда не угадаешь, когда обернется впервые. Если бы это случилось в детстве, сейчас бы не шла в конвое.
Если б вообще по Земле хаживала.
Он нашел ее на первой ночевке. Не людей разных повидал за прожитые годы, но такой как эта не встречал. Отличалась Руна взглядом. Дерзкий, больно чужой, диковатый он у нее. Бесовской, как сказал Косолапов, решив, девчонка либо ведает, либо бесы мучают. И дурная. Глаза огромные, яркие, взгляд не человеческий, словно не имелось разума в нем навек. Отталкивал всех окружающих.
На ночлеге. Костер потрескивает, отбрасывая дрожащие тени на лица каторжан. Руна сидела в стороне, прижавшись спиной к сосне – её кандалы блестели в огненном свете, как звериные глаза. Илья подошёл без звука, но она всё равно вздрогнула, почуяв его раньше, чем услышав. Их взгляды столкнулись: её – горящие, яркие-зелёные, с почти вертикальными зрачками, уже наполовину волчьими; его – холодные, синие, как лёд в горных реках, с глубиной, в которой тонули души.
– Так ты и есть тот самый Анубис? – Илья опустился перед ней на корточки, его крылья – невидимые для других – расправились в темноте, создавая барьер между ними и остальным миром. – Или просто несчастная девчонка, которую судьба скрутила в узел?
Руна оскалилась – её клыки удлинились, но были ещё человечески маленькими. Она втянула воздух носом, ноздри дрогнули: чуяла его истинную природу, но не понимала, что именно перед ней. Кто? Да разве такие бывают?
Остро-резко отпрянула, спина её ударилась о сосну. Когти – пока ещё просто грязные обломанные ногти – впились в корни. В горле клубился рык, но она подавила его, лишь прошипев сквозь стиснутые зубы.
– Отвали… крылатый ублюдок, – её голос дрожал, но не от страха – от ярости. В глазах стояли те самые воспоминания: Илья, хохотавший в углу комнаты, пока князь хрипел под её пальцами; мадам, рвущая на себе кружева; вспышка магния, навсегда запечатлевшая её позор.
Он не отступил. Его пальцы вдруг стали прозрачными – на секунду в них проступил свет, как сквозь витраж. Ангельская сущность, которую он столько лет прятал даже от самого себя.
– Я не смеялся над тобой, – наклонился ближе, и в его шёпоте зазвучали колокола несуществующего храма. – Я смеялся над тем, как они все… эти люди… даже не поняли, что между ними настоящий хищник.
Девчонка замерла. Никто – никто – никогда не называл. Резко встала, отошла от него подальше на всякий случай.
Мужики обходили стороной ее. Только дорога на то и дорога. Спустя месяц бояться перестали. Как говорится на безрыбье и баба рыба. Местные же молча терпели, странно, что с осуждением, в ней самой не было опасного, ни в поведении, ни в манерах.
Под горой тряпья, что носили катаржанки, было очевидно, Руна крайне истощена. Маленькая настолько, что легко представить, голодных дней в ее жизни случалось много больше, чем сытых. Теперь узнать в ней вышколенную, дорогую прислугу по деликатным поручениям невозможно никак.
Он приглядывал. Скажи ему месяц назад, что будет за оборотнем приглядывать. Не следить, ни охотиться, а приглядывать. Не поверил бы! На смех поднял.
Илья обычно стоял у края этапного лагеря, наблюдая, как Руна ковыряет черствый хлеб грязными пальцами. Месяц дороги стёр с неё всё – манеры, гордость, даже страх. Теперь она была просто тенью: впалые щёки, торчащие ключицы, но… эти глаза. Все те же. Зелёные, как у дикой кошки, загнанной в угол. Они горели даже сейчас, когда её тело превратилось в скелет, обтянутый кожей.
В груди что-то сжалось, будто кто-то запустил руку под рёбра и сжал сердце. "Чёрт возьми, она же умирает", – неслось в голове. Но не от голода. От чего-то худшего. От того, что её истинная природа, та самая дикость, которая когда-то задушила князя, теперь пожирала её изнутри. Оборотень, который никогда не знал, что он оборотень! И в самом деле, беда. Как ребёнок, запертый в темноте и не понимающий, почему ему больно.
Илья сглотнул.
Она ни с кем никогда не говорит, знакомств не заводит, ни на кого не смотрит. Оно и понятно, если одержимая, то не буди лихо. Но не стала бы Мария держать в прислугах сумасшедшую, да к тому же, как он позже вызнал по крайне деликатным и щекотливым поручениям. Похоже, трудная дорога и конвой ломал малышку.
Ночью, на этапном здании, охрана удалилась к себе, арестанты могли заниматься, чем душе угодно. Илья являлся выборным старостой уже как неделю. Ему нужно заботиться о приготовлении пищи. В его руки стекалась сумма денег от подати на всем пути. И за проступки артели он отвечал перед лицом начальства.
А еще в прямые обязанности входила слежка за соблюдением правил главной страсти между преступниками. Хоть в тюрьме, хоть на этапе, а майдан, как дух святой всегда существовал. Оно понятно, отдохнуть всем хочется. А кроме сна, разговора, да бабы в дороге, чем займешься?
Вот и играли на тряпице в карты или кости. Когда приличные люди видели десятый сон, бушевали душевные волнения и страсти в душной этапной избушке. Словами не передать.
Первые игры, это отбор и раздача ролей в иерархии этапа, и торги.
На ночь им попалось старое здание. Развалюха, давно не чиненная. Ночь выдалась холодной, унтер-офицер принял решение всех в одну избу согнать. Пожалел баб. Мужики порадовались. И утеха, и копейка в поддержку игры, али разбольшая любовь. Да и бабёнки всякие. Кто играть при свече сел, кто в угол забился.
Она у двери сидела. Там самое холодное место.
Сторожа поставили на стрёмы и давай новичков щепать. Нет разницы, что мужики, что бабы. Кто считает себя умнее всех и лезет в игру, а кто в стороне с опаской наблюдает, на ус мотает. Как говорили, на всякого майданщина по семи олухов.
Безумная оттолкнулась от двери. Подошла. Три рубля поставила на кон перед Косолаповым. Тот взвился. Толи опасаясь ее, толи оскорбившись. Задышал тяжело, сам покраснел, как рак. Илья кивнул. Все равно никто не проигрывает на Майдане сразу. Даже если проиграет, выигравший обязан треть вернуть. Таковы правила.
Лучина трещала, отбрасывая неровные тени на лица игроков. Косолапов, красный, швырнул на стол три рубля – монеты зазвенели, покатившись к центру. Его пальцы, толстые и потные, нервно барабанили по дереву. Руна сидела напротив, склонившись над картами, её рыжие волосы падали на стол, как языки пламени. В глазах – тот самый «бесовской» взгляд, который так пугал каторжан.
– Играем в "хрюшку", – прошипел Косолапов, сбрасывая карты. – Без поддавков, сука. И если ты…
Руна молча взяла карты. Её пальцы – тонкие, с грязными ногтями – скользнули по крапленым уголкам, будто чуя масть. Первая раздача – Косолапов выложил тройку червей, Руна – семёрку. Вторая – у него король, у неё туз. Третья…
И тут понял Илья, девчонка считает. И сказал бы что шулер, но ведь не скажешь. Хотя кто ее знает? Она выиграла у Косолапова.
Тот вдруг вскочил, опрокинув табурет. Его лицо побагровело:
– Откуда у тебя три туза в колоде?!– рванулся через стол.
Бывший купец в ярости, в азарте, готовый скрутить девчонку в рог, вызнать, как смухлевала. Мужики начали коситься с любопытством. Илья молнией вскинул руку, перехватив Косолапова за грудки. Его пальцы впились в потную ткань рубахи, приподнимая тучного купца так, что тот затопал ногами в воздухе, как перевёрнутый жук.
– Сдал ты ей три туза? – глухо прогремел, поворачиваясь к Руне.
Та лишь подняла глаза, и нервно развела руками, показывая пустые ладони. На столе лежали всего две карты: её туз и его шестёрка.
Косолапов захрипел. Его взгляд метнулся к колоде, к рукам других игроков, к полу – искал подвох. Но как можно жульничать, когда все видели, что карты она не трогала?
Руна аккуратно подцепила пальцем три рубля, подкинула одну монету обратно Косолапову – по правилам – и встала.
И бог знает, чем бы, все закончилось, как закричал сторож «стрема». Исчезли с лавки тряпица и карты. Свет махом погасили.
Илья меж Косолаповым и девчонкой оказался. Изба темная, только льется свет из окна. Дыхание, возня, кряхтение людское, бабские ласковые шальные вздохи на дальней лавке. Вот и все звуки в синеватом свете через запотевшее окно, выхватывающей из темноты силуэты: вздувшиеся вены на лбу Косолапова, дрожащие пальцы Руны, сжимающие монеты, и спину Ильи – широкую, как дверь амбара, – заслоняющую её от ярости купца. Но за этой спиной…
Он чувствовал её. Не кожей, не слухом – чем-то глубже. Её дыхание, лёгкое, как шорох листьев, но с хрипотцой, будто в груди у неё сидит зверь. Её запах – дым, пот, что-то медное, волчье. И главное – её взгляд. Он жёг ему спину, будто две раскалённые монеты приложили к лопаткам. Она смотрела не на драку, не на деньги… на него. И в этом взгляде не было страха. Было… узнавание. Как будто она видела сквозь него – крылья, ангельскую суть, грехи – всё.
Илья сглотнул. Его собственное тело вдруг стало чужим: пальцы знали, каково это – сжимать её бёдра, губы помнили вкус её шеи, а низ живота…
– Михайло, оставь! Она взяла куш честно, – прошептал он тихо, большене ощущая малышку за спиной.
Словно и не было никого там, и не дышит. На слух он не жаловался. Поймал себя на мысли, что хотел бы ощутить опять. Ищет этого. Ведь оборотень за спиной, это всегда опасность. Но Руна не знает этого. А ему бы невестись на это и не желать врага своего, дабы бога не гневить.
Зато Косолапов обиженно пыхтит, под звуки проворачивающегося ключа, и возни с щеколдой кого-то из унтер-офицеров.
Конвойный рябой, с лицом, будто изъеденным оспой, шаркнул сапогом по порогу. Его глаза – мутные, как у старой лошади – скользнули по женщинам, задерживаясь на худеньких фигурках. Лампа в его руке качнулась, отбрасывая прыгающие тени на стены.
– Бабы! – гаркнул он так, что с потолка посыпалась труха. Голос – хриплый, пропитанный дешёвой водкой и казарменной бранью. – Кто в баню желает? Натопили от души, мать вашу!
Плюнул в угол, едва не задев Руну, которая сидела, как тень.
Мужики зашевелились, как голодные псы у мясной лавки. Один уже причмокивал:
– Эх, хоть глазком, хоть одним…
Рядовой внезапно развернулся, ударив прикладом по косяку – треск разнёсся по избе.
– Только бабы! Мужики – потом! А кто сейчас сунется – тому в морду кипятком полью, сукины дети!
Бабы вышли и направилась в баню первая партия. Мужики все дела забросили, к трем маленьким окошкам, что во двор смотрели, прильнули. Ждут угощение для глаз.
– Зачем это? – усмехнулся Илья.
Косолапов мечтательно улыбнулся.
– Так ведь запруда рядом. Всегда найдется несколько желающих окунуться.
Что ж и мужиков понять можно, и баб. Илья тоже сел, недалеко, наблюдая, как мужики затихли, задремали, пока кто-нибудь не гикнет, не оповестит о начале зрелища. Он и сам задремал, видя почему-то во сне не бывшую любовницу, а Руну. Встрепенулся от визга, четверть часа спустя.
Визжали бабы, выбегая из бани, в чем мать родила.
– Волчица! Свят-свят, прости господи! Спаси и сохрани! Волчица. Ведьма-Ведьма.
Они вопили голося, кто во что горазд. Мужики посыпали с охраной во двор. Этапный двор все равно частоколом огорожен. В центре ворота, а калитка у бани, за которой запруда.
– Отставить! Прекратить истерику. Этап стройся, – завопил, срывая голос главный конвойный офицер.
Он и сам в одной рубахе и штанах, выскочил, как есть из избы-казармы. От окрика народ пришел в себя. Волна паники, не остыв, махом не улеглась.
– Я сказал, построились.