
Полная версия
Обрученные
– К вечеру…
– Отлично!
– Но смотри! – сказал Ренцо, снова приложив палец к губам.
– Ну вот еще! – отвечал Тонио, склоняя голову к правому плечу и подняв левую руку, с выражением лица, говорившим: «Ты меня обижаешь».
– А если жена тебя спросит, а она, конечно, не преминет…
– По части вранья я у своей жены в долгу, да в таком, что уж и не знаю, удастся ли когда-нибудь с ней рассчитаться. Уж придумаю какую-нибудь чепуху, чтобы угомонить ее…
– Завтра утром, – сказал Ренцо, – мы поговорим обстоятельнее, чтобы хорошенько условиться обо всем.
С этим они вышли из остерии. Тонио направился домой, сочиняя всякий вздор, чтобы рассказать своим женщинам, а Ренцо пошел сообщить о заключенном соглашении.

Тем временем Аньезе выбивалась из сил, тщетно стараясь убедить дочь, которая против любого ее довода выдвигала то одно, то другое положение своей дилеммы: либо это дело нехорошее – и не следует его делать; либо наоборот, а тогда почему не сказать о нем падре Кристофоро?
Ренцо вернулся торжествующий и, рассказав обо всем, закончил восклицанием: «А?!» – что означало: «Ну, каков я? Разве можно было придумать лучше? Вы, небось, так не сообразили бы» – и всякое такое прочее…
Лючия тихонько покачивала головой; остальные двое в чрезмерном волнении мало обращали на нее внимания; так поступают обычно с ребенком, не рассчитывая, что он сразу поймет смысл происходящего, и от которого позднее просьбами и уговорами удастся добиться того, что нужно.
– Хорошо-то оно хорошо, – сказала Аньезе, – только вы не обо всем подумали.
– Чего же еще не хватает? – спросил Ренцо.
– А Перпетуя? Ее-то вы и забыли. Тонио с братом она, пожалуй, и впустит; а вас, да еще вдвоем!.. Подумайте! Ей, наверно, приказано и близко вас не подпускать, словно мальчишку к дереву со спелыми грушами.

– Как же быть? – произнес несколько смущенный Ренцо.
– А вот как – я уж все это обдумала. Пойду с вами и я. У меня есть секрет, чем привлечь ее и так заворожить, что она вас не заметит, – вы и войдете. Я позову ее и затрону такую струнку… вот увидите.
– Как вас благодарить! – воскликнул Ренцо. – Я всегда говорил, что вы во всем нам поддержка.
– Но все это ни к чему, – сказала Аньезе, – если не удастся убедить Лючию: она упорно твердит, что это грех.
Тогда и Ренцо пустил в ход свое красноречие, но Лючию ничем нельзя было сбить с толку.
– Я не могу ответить на все ваши доводы, – говорила она, – одно я вижу: чтобы сделать так, как вы говорите, приходится пускать в ход уловки, выдумки, ложь. Ах, Ренцо, не так мы с вами начали! Я хочу быть вашей женой (произнеся это слово и объясняя это свое намерение, она никак не могла совладать с собой и густо покраснела), но только честным путем, со страхом Божьим, перед алтарем. Предоставим все воле Божьей. Разве не найдет он пути помочь нам лучше, чем это можем сделать мы со всеми своими фокусами и уловками? И зачем скрывать все от падре Кристофоро?
Спор не унимался, и казалось, конца ему не будет, как вдруг торопливое топанье сандалий и звук хлопающей сутаны, похожий на тот, что производят повторные порывы ветра, ударяющие в поникшие паруса, возвестили приближение падре Кристофоро. Все замолкли, а Аньезе едва успела шепнуть на ухо Лючии: «Ну смотри же, не проговорись ему».
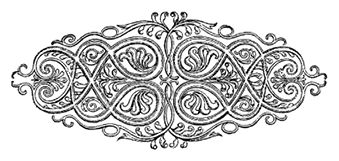
Глава седьмая


При своем появлении падре Кристофоро был похож на хорошего полководца, который проиграл не по своей вине важное сражение и был опечален этим, хотя и не обескуражен, озабочен, но не в растерянности и со всей быстротой, но без всякой паники спешил туда, куда звала его необходимость, дабы укрепить уязвимые места, собрать войска и отдать новые распоряжения.
– Мир вам, – сказал он, входя. – От этого человека ждать нечего; тем более надо уповать на Бога, и у меня уже есть некоторый залог его заступничества.
Хотя никто из троих и не возлагал больших надежд на попытку падре Кристофоро, ибо зрелище тирана, отказывающегося от насилия без всякого принуждения, единственно в угоду простым мольбам, было не только редким, а прямо-таки неслыханным явлением, все же печальная истина была ударом для всех. Женщины опустили головы, но в душе Ренцо гнев пересилил подавленность духа. Известие это застало его уже достаточно ожесточившимся от многочисленных печальных неожиданностей, тщетных попыток, обманутых надежд, а кроме того, в данную минуту он был раздражен упорством Лючии.
– Хотел бы я знать, – закричал он, скрежеща зубами и повышая голос, чего никогда раньше не позволял себе в присутствии падре Кристофоро, – хотел бы я знать, какие доводы приводил этот пес в доказательство… в доказательство того, что моя невеста… не должна быть моей невестой.
– Бедный Ренцо! – печально отвечал монах, кротким взглядом как бы призывая его к умиротворению. – Если б насильник, собираясь совершить несправедливость, всегда был обязан давать объяснения, дела шли бы не так, как идут теперь.
– Стало быть, этот пес заявил, что он не хочет просто потому, что вообще не хочет?
– Он даже и этого не сказал, бедный мой Ренцо. Ведь это уже было бы большим шагом вперед, если бы, совершая беззаконие, тираны открыто признавались в нем.
– Но что-то ведь он должен был сказать? Что же говорил он, это исчадие ада?
– Слова его я слышал, но не сумел бы повторить их тебе. Слова несправедливого, но всесильного человека доходят до нас и испаряются. Он может разгневаться на то, что ты выказываешь подозрение на его счет, и вместе с тем дать тебе почувствовать, что подозрение твое вполне основательно; он может оскорблять – и все же считать себя самого обиженным, издеваться – и требовать удовлетворения, устрашать – и плакаться, быть наглым – и считать себя безупречным. Не расспрашивай больше об этом. Он не произнес ни ее имени, ни твоего, не подал и виду, что знает вас, не заявил никаких притязаний, но… но, увы, я должен был понять, что он непреклонен. Тем не менее будем уповать на Бога. А вы, бедняжки мои, не падайте духом; и ты, Ренцо, поверь мне, что я готов войти в твое положение и чувствую то, что происходит в твоей душе. Но – терпение! Это – суровое слово, горькое для неверующего. Но ты… Неужели ты не захочешь подарить Господу Богу день-другой, вообще – сколько ему понадобится времени для того, чтобы дать восторжествовать справедливости? Время в Его власти, и все в Божьей воле! Положись на Всевышнего, Ренцо, и знай… знайте все вы, что у меня в руках уже есть нить, чтобы оказать вам помощь. Ничего больше пока я сказать не могу. Завтра я уж не поднимусь к вам сюда, мне придется весь день пробыть в монастыре, – все ради вас. Ты, Ренцо, постарайся прийти туда; если же по какому-нибудь непредвиденному случаю ты сам не сможешь, тогда пошлите надежного человека, какого-нибудь толкового мальчугана, – я через него дам вам знать обо всем, что произойдет. Однако уже темнеет, мне надо спешить в монастырь. Верьте же и не падайте духом! Прощайте!
С этими словами он поспешно вышел и вприпрыжку, почти бегом, стал спускаться по извилистой и каменистой тропке, лишь бы не запоздать в монастырь, рискуя получить здоровую нахлобучку либо – что для него было гораздо тягостнее – епитимию, которая лишила бы его возможности на следующий день быть во всеоружии для выполнения того, что потребуют интересы его любимцев.
– Вы слышали, что он сказал про эту… как ее… про нить, которая есть у него для оказания нам помощи? – сказала Лючия. – Надо довериться ему. Это такой человек, что если он обещает десять…
– Если дело только в этом, – прервала Аньезе, – ему бы следовало выразиться пояснее либо отозвать меня к сторонке и сказать, в чем тут дело…
– Пустая болтовня! Я сам справлюсь, сам! – прервал, в свою очередь, Ренцо, принявшись ходить взад и вперед по комнате. Его голос и взгляд не оставляли ни малейшего сомнения насчет смысла этих слов.
– Ренцо! – воскликнула Лючия.
– Что вы хотите сказать? – подхватила Аньезе.
– А что тут говорить? Я разделаюсь с ним сам. Пусть в нем сидит хоть сто, хоть тысяча чертей, – в конце концов, ведь и он из костей да мяса…
– Нет, нет, ради самого Неба!.. – начала было Лючия, но слезы заглушили ее слова.
– Таких слов не следует говорить даже в шутку! – сказала Аньезе.
– В шутку?! – вскричал Ренцо, остановившись перед сидевшей Аньезе и уставившись на нее, вытаращив глаза. – Шутка! Вот увидите, какая это шутка!
– Ренцо! – с усилием, сквозь рыдания, произнесла Лючия, – я никогда не видала вас таким.
– Ради самого Неба, не говорите таких вещей, – торопливо заговорила Аньезе, понижая голос. – Вы забыли, сколько рук в его распоряжении? И даже если бы… Да Боже избави! На бедных всегда найдется расправа.
– Я сам расправлюсь, поняли? Пора, наконец! Дело нелегкое, и я это знаю. Он здорово бережется, пес кровожадный. Знает, в чем дело! Но это не важно. Решимость и терпение, и час его настанет! Да, я расправлюсь… я избавлю всю округу… сколько людей станет благословлять меня… А потом – в три прыжка…
Ужас, который охватил Лючию при этих вполне определенных словах, осушил ее слезы и дал силу заговорить. Отняв руки от заплаканного лица, она печально и вместе с тем решительно сказала Ренцо:
– Стало быть, вам уже неохота взять меня в жены. Я дала слово юноше, в котором был страх Божий; а человек, который… Будь он даже огражден от всякой расправы, от всякой мести, будь он хоть королевский сын…
– Ну что ж! – закричал Ренцо с исказившимся лицом. – Вы не достанетесь мне, зато не достанетесь и ему. Я останусь здесь без вас, а он отправится ко всем…
– Нет, нет, Бога ради, не говорите так, не делайте таких глаз!.. Я не могу, не могу видеть вас таким! – воскликнула Лючия, в слезах и мольбе ломая руки; Аньезе тем временем звала юношу по имени, трясла его за плечи, за руки, чтобы как-нибудь успокоить.
Некоторое время он стоял неподвижно и, задумавшись, вглядывался в умоляющее лицо Лючии. Потом вдруг зловеще взглянул на девушку, отступил назад и, указывая на нее пальцем, закричал:
– Да, ее, ее он хочет! Смерть ему!
– А я-то, какое же я вам причинила зло? Почему вы хотите моей смерти? – сказала Лючия, бросаясь перед ним на колени.
– Вы? – отвечал он голосом, в котором звучал гнев иного рода, но все же гнев. – Вы? Где же ваша любовь? Чем вы ее доказали? Разве я не умолял вас, не умолял без конца? А вы все «нет» да «нет»!
– Я согласна, согласна, – порывисто отвечала Лючия, – пойду к курато, завтра или хоть сейчас, если вам этого хочется. Только будьте прежним Ренцо, – я пойду.
– Вы обещаете мне это? – сказал Ренцо, и лицо и голос его сразу смягчились.
– Обещаю!
– Так помните же свое обещание!
– Благодарю тебя, Создатель! – воскликнула Аньезе, обрадованная вдвойне.
Думал ли Ренцо во время этой сильной вспышки гнева о том, какую пользу можно извлечь из испуга Лючии? И не постарался ли он несколько искусственно раздуть этот гнев, дабы он оказал свое действие? Наш автор заявляет, что ничего не ведает, а я думаю, что и сам Ренцо хорошенько не знал этого. Несомненно одно: он действительно был взбешен наглостью дона Родриго и жаждал согласия Лючии; а когда две сильные страсти одновременно клокочут в груди человека, никто, и меньше всего он сам, не в состоянии отчетливо различить голоса бушующих в нем страстей и сказать с уверенностью, которая из них берет верх.
– Я обещала вам, – ответила Лючия тоном робкого и любящего упрека, – но и вы обещали мне не буянить, положиться в этом деле на падре Кристофоро.
– Боже мой! Да из-за кого же я так безумствую? Вы, кажется, уже собираетесь идти на попятную, а меня хотите заставить выкинуть какую-нибудь штуку?
– Нет-нет, – отвечала Лючия, снова испугавшись. – Я обещала и не отступлюсь. Но посмотрите, как вы меня заставили дать обещание. Не дай только Бог…
– Почему, Лючия, вам хочется видеть все в черном свете? Ведь Господь ведает, что мы никого не обидели.
– В последний раз обещайте мне хотя бы это.

– Обещаю честным словом бедняка.
– Но на этот раз сдержите слово, – сказала Аньезе.
Здесь автор признается, что он не знает, была ли Лючия все-таки недовольна тем, что ее принудили дать согласие. Мы, со своей стороны, тоже оставляем это под сомнением.
Ренцо хотел было продолжить беседу и подробно договориться обо всем, что предстояло сделать на другой день, но было уже поздно, и женщины пожелали ему спокойной ночи. На их взгляд, неприлично было засиживаться так поздно.
Для всех троих эта ночь оказалась спокойной настолько, насколько это возможно после дня, полного волнений и забот, и в канун другого дня, намеченного для важного дела, исход которого сомнителен. Ренцо объявился рано поутру и подготовил совместно с женщинами или, точнее сказать, с Аньезе предстоящее вечером великое предприятие. Они поочередно выдвигали и разрешали всевозможные затруднения, предусматривали всевозможные препятствия и принимались оба разом описывать дело, словно рассказывая об уже свершившемся. Лючия слушала и, не одобряя словами того, чего не могла одобрить в глубине души, обещала сделать все насколько сумеет лучше.
– Ну а вы спуститесь в монастырь повидаться с падре Кристофоро, как он вам говорил вчера вечером? – спросила Аньезе у Ренцо.
– Как бы не так! – ответил тот. – Вы ведь знаете, какие у него чертовские глаза; он у меня на лице, как в книге, сразу прочтет, что мы что-то затеваем. А уж если начнет задавать вопросы, то мне нипочем не отвертеться. К тому же мне надо остаться здесь налаживать дело. Лучше уж вы пошлите кого-нибудь.
– Я пошлю Менико.
– Отлично, – отвечал Ренцо и ушел, как он сказал, «налаживать дело».
Аньезе пошла в один из соседних домов за Менико. Это был довольно шустрый мальчуган лет двенадцати, который через разных двоюродных братьев и свойственников приходился ей до некоторой степени племянником. Она выпросила его у родителей на весь этот день, так сказать, взаймы «для одной услуги», как она выразилась. Забрав мальчика, она привела его к себе на кухню, накормила завтраком и велела сходить в Пескаренико. Там он должен попасться на глаза падре Кристофоро, а уж тот, когда придет время, отправит его обратно с ответом.
– Падре Кристофоро, знаешь, – такой красивый старик с белоснежной бородой, которого зовут святым.
– Понял, – сказал Менико, – тот, который нас, ребят, всегда ласкает, а иногда раздает нам образки.
– Он самый, Менико! И если он велит тебе немного подождать там же, около монастыря, так ты смотри не отлучайся; да только не ходи с товарищами на озеро смотреть, как ловят рыбу, да не балуйся с сетями, развешанными по стене для сушки, и вообще никаких своих обычных игр не затевай…
Надо сказать, что Менико был большой мастер пускать по воде рикошетом камни. А ведь известно, что все мы, большие и малые, охотно делаем то, в чем набили себе руку, – я не говорю, что только такие, как Менико.
– Ну, само собой, тетенька! Ведь я уже не маленький.
– Хорошо, так будь умником; а когда вернешься с ответом, посмотри-ка: вот эти две новенькие парпальолы – для тебя.
– Так вы мне сейчас их и дайте, какая разница!
– Нет-нет, ты их, пожалуй, проиграешь. Ступай и веди себя как следует. Может быть, получишь тогда еще больше.
В оставшуюся часть этого долгого утра обнаружились некоторые новые явления, которые вызвали немалые подозрения у женщин, и без того уже встревоженных. Какой-то нищий, далеко не до такой степени отощавший и оборванный, какими обычно бывают его собратья, с лицом подозрительно мрачным и зловещим, вошел попросить милостыню, оглядываясь по сторонам, точно соглядатай. Ему дали кусок хлеба; он взял его и спрятал с нескрываемым безразличием. Потом задержался и не без наглости, но вместе с тем как-то нерешительно стал задавать разные вопросы, на которые Аньезе торопливо отвечала, стараясь скрыть истину. Собираясь уходить, нищий притворился, что ошибся дверью, и вошел в ту, которая вела на лестницу, где так же наспех окинул все взглядом, насколько это было возможно. Когда ему крикнули вслед: «Эй, эй, вы куда, почтенный? Сюда надо, сюда!» – он вернулся и вышел, куда ему указали, извинившись с покорностью и деланым смирением, которые никак не вязались с резкими чертами его лица. После него появлялись время от времени другие странные лица. Нелегко было определить, что это были за люди, но не верилось, что это безобидные прохожие, какими они хотели казаться. Один зашел под предлогом, чтобы ему показали дорогу; другие, проходя мимо дверей, замедляли шаг и искоса заглядывали в комнату через дворик, стараясь что-то высмотреть, не вызывая подозрений. Наконец к полудню это надоедливое хождение кончилось. Аньезе время от времени вставала и, пройдя дворик, выглядывала из калитки на улицу. Осмотревшись по сторонам, она возвращалась, говоря: «Никого нет», и произносила эти слова с явным удовольствием, которое разделяла и слушавшая ее Лючия, причем ни та ни другая не знали толком, почему их это радует. Однако обе все же чувствовали какое-то смутное беспокойство, лишившее их, особенно дочь, значительной доли бодрости, которой они запаслись было для вечера.


Читателю, однако, пора узнать кое-что более определенное относительно этих таинственных бродяг. И дабы осведомить его обо всем, нам придется вернуться назад и снова заняться доном Родриго, которого мы оставили вчера, после ухода падре Кристофоро, в одиночестве в одной из комнат его палаццо.
Как мы уже сказали, дон Родриго мерил большими шагами эту комнату, со стен которой на него глядели фамильные портреты нескольких поколений. Когда он подходил вплотную к стене и поворачивался, он видел прямо перед собой одного из своих воинственных предков, грозу врагов и собственных солдат, со свирепым взором, короткими жесткими волосами, длинными, торчащими в стороны, остро закрученными усами и со срезанным подбородком. Герой изображен был во весь рост, в маске, в набедренных латах, панцире, нарукавниках, перчатках – всё из железа. Правая рука его упиралась в бедро, левая покоилась на эфесе шпаги. Дон Родриго смотрел на него; когда же подходил к самому портрету и поворачивался, перед ним был уже другой предок – судья, гроза тяжущихся и адвокатов; он сидел в огромном кресле, обитом красным бархатом, облаченный в просторную черную мантию. Весь в черном, за исключением белого воротника с широкими брыжами и горностаевой подкладки, край которой был откинут (что было отличительным признаком сенаторов, которые, разумеется, носили эту подкладку только зимой, – вот почему никогда не встретишь портрета сенатора в летнем одеянии), – тощий, с нахмуренными бровями, он держал в руках какое-то прошение и, казалось, говорил: «Посмотрим». По одну сторону от него была важная дама, гроза своих служанок, по другую – аббат, гроза своих монахов, – словом, все это были люди, которые нагоняли страх, и казалось, от холстов все еще веяло этим страхом. Лицом к лицу с такими воспоминаниями дон Родриго пришел в совершенное бешенство. Он сгорал от стыда и никак не мог успокоиться при мысли, что какой-то монах дерзнул приставать к нему с поучениями в духе пророка Натана. Он строил и отвергал всевозможные планы мести, желая удовлетворить как свою страсть, так и то, что он называл честью. И лишь когда (подумайте только!) у него в ушах вновь звучало недосказанное пророчество и его, что называется, мороз продирал по коже, он почти готов был отбросить всякую мысль о получении этого двойного удовлетворения. В конце концов, чтобы чем-нибудь заняться, он позвал слугу и приказал передать извинение честной компании, поскольку его-де задерживает неотложное дело. Когда слуга вернулся и доложил, что господа ушли, прося засвидетельствовать свое почтение хозяину, дон Родриго спросил, продолжая расхаживать:
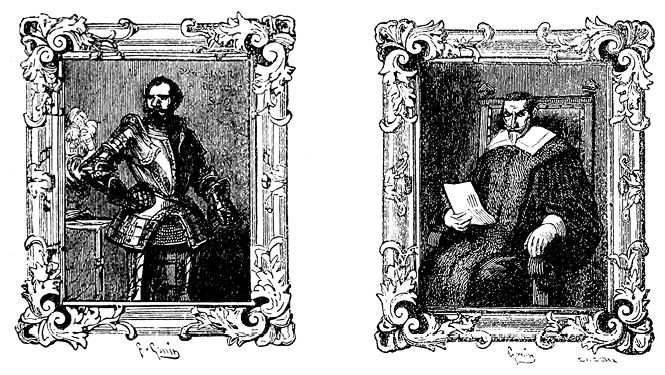

– А граф Аттилио?
– Они ушли с другими господами, синьор.
– Хорошо. Шесть человек свиты для прогулки – живо! Шпагу, плащ, шляпу – живо!
Слуга удалился, отвесив поклон. Вскоре он вернулся, принеся роскошную шпагу, которую хозяин пристегнул к бедру; плащ, что был наброшен на плечи; шляпу с пышными перьями, которую он надел на голову, а потом горделиво надвинул на глаза, – признак того, что в море неспокойно. Дон Родриго вышел и в дверях увидел шестерых разбойников в полном вооружении; выстроившись в шеренгу и встретив его поклоном, они двинулись за ним следом. Брюзжащий, хмурый, спесивый больше обычного, он отправился на прогулку в сторону Лекко. Крестьяне и мастеровые при виде его жались к стене и издали, обнажив голову, отвешивали ему низкие поклоны, которые он оставлял без внимания. Как подчиненные кланялись ему и те, кто в глазах остального населения сами считались синьорами; дело в том, что во всей округе не было ни одного человека, который хоть отдаленно мог бы сравниться с ним по своему происхождению, богатству, связям и стремлению использовать все, чтобы возвыситься над другими. К таким людям он выказывал величавое благоволение. В тот день не случилось, но, когда случалось ему встретиться с испанцем, синьором кастелланом, поклон с обеих сторон был одинаково глубокий, словно дело происходило между двумя властителями, которым нечего делить между собой, но которые, приличия ради, оказывают честь достоинству друг друга. Чтобы развеять хандру, чем-нибудь отогнать образ монаха, неотступно тревоживший его воображение, и набраться новых впечатлений, дон Родриго в этот день завернул в один дом, куда обычно ходило много народа и где его приняли с тем суетливым и почтительным радушием, которое приберегают для людей, умеющих заставить сильно любить себя и столь же сильно бояться. Лишь с наступлением ночи вернулся он в свое палаццо. Граф Аттилио тоже возвратился к этому времени. Им принесли ужин, за которым дон Родриго был задумчив и мало говорил.
– Кузен, когда же вы заплатите мне пари? – сказал с хитрой усмешкой дон Аттилио, как только слуги убрали со стола и удалились.
– День Сан-Мартино еще не прошел.
– Все равно, можете уплатить хоть сейчас – ведь успеют пройти все святые по календарю, прежде чем…
– А это мы еще посмотрим.
– Кузен, вы напрасно разыгрываете из себя хитреца. Я ведь все понял и настолько уверен в выигрыше, что готов заключить хоть еще одно пари.
– Насчет чего?
– А насчет того, что монах… Ну, словом, этот самый монах обратил вас на путь истинный.
– Вот уж сказали!
– Обратил, милейший мой, несомненно обратил. И я, со своей стороны, даже рад этому. В самом деле, ведь это же будет великолепное зрелище – видеть вас кающимся в своих грехах, с опущенными долу очами. А монах-то как возгордится! Каким торжествующим, с высоко поднятой головой вернется он в свой монастырь! Не каждый день бывает такой улов! Можете не сомневаться, что он вас станет ставить всем в пример, а когда отправится с проповедью чуть подальше, будет рассказывать о ваших похвальных деяниях. Так вот, кажется, и слышу его. – И он продолжал тоном проповеди, гнусавя и сопровождая слова иронической жестикуляцией: – «В некоторой стране мира сего, которую я, по долгу уважения, не стану называть, проживал, о возлюбленные чада мои, и проживает поныне некий распутный дворянин, скорее друг прелестных женщин, чем доблестных мужей. Привыкши любую траву собирать в пучок, бросил он взор свой на…»
– Довольно, довольно, – прервал его дон Родриго, которого слова кузена не то обозлили, не то рассмешили. – Если хотите удвоить пари, я согласен.
– Черт возьми! Уж не вы ли обратили монаха?
– Не говорите мне о нем. А что касается пари, то дело решится в день Сан-Мартино.
Любопытство графа было возбуждено. Он засыпал кузена вопросами, но дон Родриго сумел уклониться от ответа, ссылаясь все время на решающий день и не желая выдать противной стороне своих намерений, которые еще не только не осуществлялись, но даже и не определились окончательно.
На следующее утро дон Родриго проснулся прежним доном Родриго. Тревога, вызванная словами: «Настанет день…», исчезла вместе с ночными сновидениями, осталось лишь бешенство, разжигаемое чувством стыда за минутную слабость. Триумфальная прогулка, поклоны, оказанный ему прием и подзадоривания кузена – все это немало способствовало возврату прежней отваги. Едва поднявшись, он приказал позвать Гризо. «Большие предстоят дела», – сказал себе старик-слуга, получивший приказание, ибо человек, носивший эту кличку, был не кто иной, как главарь брави, тот, на кого возлагались самые рискованные и самые злодейские предприятия, наиболее доверенное лицо из приближенных синьора, преданный хозяину душой и телом как из благодарности, так и из корысти. Открыто, среди бела дня убив человека, он пришел просить защиты у дона Родриго, и тот, прикрыв Гризо своей ливреей, спас его от всяких розысков со стороны правосудия. Так, ценой участия в любом преступлении, какое ему прикажут совершить, он купил себе безнаказанность за первое, им содеянное. Для дона Родриго это было немаловажным приобретением: не говоря уже о том, что Гризо был, несомненно, самым храбрым из всей банды, он вместе с тем служил живым доказательством того, что его патрон может безнаказанно позволять себе противозаконные поступки, – так что могущество дона Родриго от этого возросло как фактически, так и в сознании всех окружающих.






