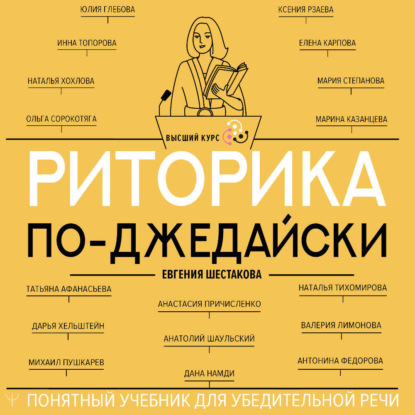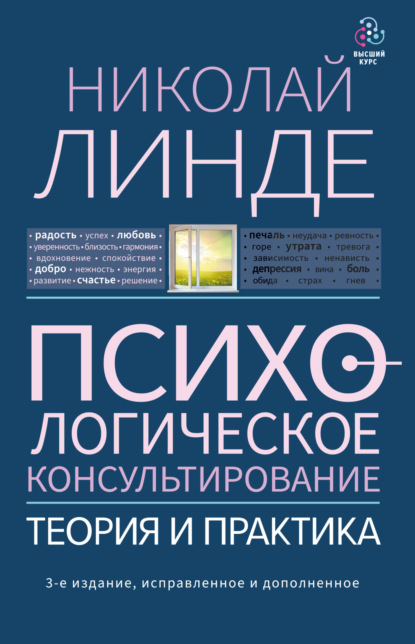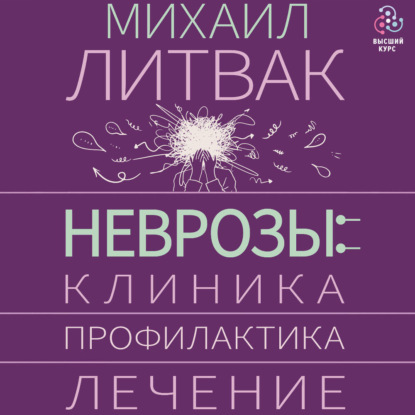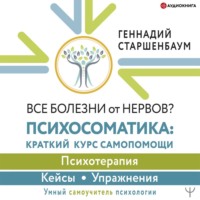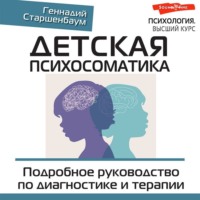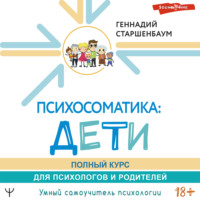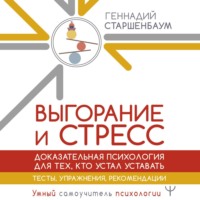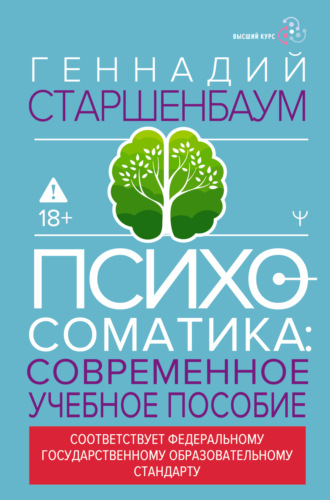
Полная версия
Психосоматика. Современное учебно-практическое руководство
На переходе к дистрессу человеческий организм разряжает накопившееся напряжение с помощью вегетативных кризов. Напряжение делается чрезмерным, частота пульса превышает 100 ударов в минуту, учащается дыхание. Кожа бледнеет или покрывается белыми и красными пятнами, возникает озноб, суетливость, становится трудно управлять вниманием, ухудшается память.
Позднейшие исследования позволили уточнить роль парасимпатической нервной системы в развитии психосоматических расстройств. В обычных условиях она обеспечивает накопление и сохранение ресурсов, в результате ее активности в кровь поступает кортизол и другие кортикостероиды. Они уравновешивают процессы возбуждения, например смягчают воспалительные явления за счет снижения активности киллерных клеток иммунной системы.
В современном цивилизованном обществе нормы социального общежития защищают человека от острых стрессов, однако за это ему приходится платить хроническим дистрессом – постоянным внутренним перенапряжением при попытках сдержать свои желания и чувства. Развитию психосоматических расстройств способствуют и неотреагированные эмоции. Печаль, не выплаканная слезами, заставляет «плакать» другие органы.
Иммунная система предупреждает развитие инфекций и опухолей, обнаруживая и уничтожая антигены – чужеродные субстанции и собственные клетки-мутанты. Этим занимаются лимфоциты, циркулирующие в лимфе и крови. Норадреналин на ранней стадии стресса стимулирует активность лимфоцитов, однако затем начинает подавлять ее. В результате иммунитет ослабляется, легко развиваются инфекционные, аллергические и онкологические заболевания.
Нейромедиаторы – это химические вещества, которые синтезируются в нейронах, содержатся в пресинаптических окончаниях и в ответ на нервный импульс высвобождаются в синаптическую щель. Нейромедиаторы воздействуют на специфические рецепторы клеточной мембраны и изменяют ее проницаемость для определенных ионов, генерируя потенциал действия – активный электрический сигнал. В центральной нервной системе роль медиаторов осуществляют дофамин, серотонин, ацетилхолин, норадреналин, глицин, глутаминовая и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК).
Нейромодуляторы не обладают самостоятельным действием, но влияют на эффекты медиаторов. Они вырабатываются в нейронах и окружающих их глиозных клетках и действуют, помимо постсинаптической мембраны, также на другие участки нейронов. К нейромодуляторам относятся, в частности, опиоидные пептиды, такие как динорфины, энкефалины и эндорфины. Недостаток эндогенных опиатов вызывает состояние скуки и мрачного недовольства, а их избыток создает чувство кайфа, эйфории.
Динорфины способствуют успокоению, а энкефалины обеспечивают аналгезию и положительное подкрепление. Эндорфины вызывают ретроградную амнезию (забывание событий, предшествовавших травме), подавление исследовательской активности, стимуляцию эмоционального поведения и двигательной активности. Они выделяются, в частности, во время усиленных физических нагрузок. Например, анандамид вызывает эйфорию, которая проявляется как «пик бегуна» и тяга к тренировкам, а также выравнивает настроение при легких формах депрессии. Кроме того, он облегчает переносимость боли при спортивных травмах.
Серотонин и ацетилхолин тоже могут играть роль модуляторов, поскольку к ним имеются соответствующие рецепторы. Серотониновая система тормозит активность, ведущую к тревоге или агрессии; низкий уровень серотонина связан с депрессией. Норадреналин имеет отношение к побуждающим, мотивационным аспектам поведения.
Нейромедиатор дофамин, взаимодействуя с эндорфинами и серотонином, обеспечивает положительные эмоции, связанные с пищевым, питьевым и половым поведением. Воздействие дофамина модулируют, в частности, глутаминовая кислота и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Глутаминовая кислота (в просторечии – глутамат) участвует в обучении, развитии и созревании нервной системы. Одни рецепторы глутамата обеспечивают быстрые синаптические ответы посредством повышения входа в клетку ионов натрия, другие опосредуют синаптические ответы большей длительности путем изменения проницаемости для ионов кальция, натрия и калия.
ГАМК осуществляет тормозящие эффекты через специфические рецепторы, стимуляция которых приводит к появлению анксиолитического (противотревожного), седативного (успокаивающего) и миорелаксирующего (расслабляющего) эффекта. Патогенез многих психосоматических нарушений связан со снижением активности ГАМКергических нейронов. В результате активируются другие нейроны, что находит проявление в психосоматических симптомах (Дробижев и др., 2013, 2017).
Так, гиперактивность серотониновых нейронов сопровождается дискомфортом в животе и в эпигастрии, тошнотой, позывами на рвоту или дефекацию, головными болями по типу мигренозных, внутренней напряженностью, тревогой.
Повышение активности гистаминовых нейронов ассоциируется с нарушением сна, головными болями, бронохоспазмом, изжогой, кожным зудом. Активация норадреналиновых и глутаматных нейронов вызывает учащенное сердцебиение, боли в области сердца, головокружение, колебания артериального давления, учащенное дыхание, удушье, суетливость, мышечные боли напряжения, дрожь и невозможность расслабиться.
Дофаминовые и норадреналиновые нейроны отвечают за внимание, удовлетворение, мышление, скорость психомоторных процессов и половые функции. Торможение этих нервных клеток серотониновыми нейронами приводит к отключению внимания, общей слабости, снижению либидо, задержке эякуляции, нарушению оргастической функции.
Снижение активности серотониновых и норадреналиновых нейронов (СЕН и НАН) сопровождается хандрой, раздражительностью, недовольством, беспокойством, нервозностью. Снижение активности всех трех групп нейронов – дофаминовых, серотониновых и норадреналиновых – сопровождается снижением аппетита, болевыми и другими тягостными, неприятными ощущениями.
Дефицит активности СЕН и НАН сопряжен с нарушением работы обезболивающих систем головного мозга. В результате формируются локализованная (постоянная, тяжелая) или разлитая костно-мышечная боль, которая диагностируется как устойчивое соматоформное болевое расстройство (хроническая боль) или фибромиалгия (соответственно). С подробной симптоматикой расстройств, связанных со снижением активности нейронов, можно ознакомиться в таблицах № 2 и № 3.
Таблица 2. Активность нейронов при тревожных расстройствах

Примечание: СЕН↓ серотониновые нейроны, ГАН↓ гамкергические, НАН↓ норадреналиновые, ДАН↓ дофаминовые.
У лиц, страдающих расстройствами пищевого поведения, выявляется правополушарное доминирование на фоне левополушарного дефицита, нарушение согласованности между полушариями мозга и затруднения межполушарного переноса эмоционально важной информации. При сниженном уровне эндорфинов избыточное переедание, как и голодание, приводит к усилению их выброса, что обеспечивает положительное подкрепление. Переедание связано со сниженной чувствительностью к дофамину системы вознаграждения.
Таблица 3. Активность нейронов при других расстройствах

Примечание: СЕН↓ серотониновые нейроны, ГАН↓ гамкергические, НАН↓ норадреналиновые, ДАН↓ дофаминовые.
Описан синдром дефицита вознаграждения (Reward Deficiency Syndrome, RDS) – хроническое состояние, когда у человека активизируются несколько генов, которые начинают вырабатывать белки обратного захвата дофамина, серотонина, норадреналина и белки, блокирующие рецепторы нейромедиаторов, в результате чего человек практически теряет естественную способность быть удовлетворенным.
Известны два вещества, естественным образом угнетающие аппетит: гормон лептин и белок глюкогоноидный пептид-1. Предполагается, что у больных булимией рецепторы мозга, реагирующие на эти вещества, являются дефектными, что объясняет пониженную активность нейромедиаторов норадреналина и серотонина. У многих из этих людей наблюдается депрессия.
Жадность в потреблении жирной пищи вызвана увеличением числа жировых клеток, которое может быть обусловлено как за счет перекармливания в раннем детстве, так и генетически. У детей, один из родителей которых страдает избыточным весом, ожирение развивается в 6 раз чаще, а у детей, у которых больны оба родителя, – в 13 раз.
Сексуальное влечение у потенциального партнера стимулируют специальные летучие вещества – феромоны. К ним относятся андростенол, присутствующий в поте мужчины и обладающий мускусным запахом, и копулин, входящий в состав женских половых выделений. В пылу любовного увлечения в мозгу вырабатываются фенилэтиламин и дофамин. Дофамин повышает либидо, а серотонин тормозит его. Пребывание наедине с любимым человеком стимулирует выработку эндорфина, а эротические ласки приводят к выделению окситоцина, с которым связано переживание оргазма и сексуального удовлетворения, а также удовольствия от комплимента или похвалы. Гиперсексуальность может быть связана также с избытком полового гормона тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин.
Психологический аспект
Ф. Александер (2022) описал вегетоневроз, симптомы которого являются физиологическим сопровождением определенных эмоциональных состояний. При отсутствии направленного вовне действия, сбрасывающего напряжение, функциональные расстройства переходят в необратимые изменения органов. Причиной блокады действий являются ситуации, в которых актуализируются специфические конфликты раннего детства.
Каждой эмоциональной ситуации соответствует определенный соматический синдром. Неотреагированная агрессия приводит к длительному возбуждению симпатоадреналовой системы с последующим развитием гипертонии, мигрени, артритов, гипертиреоза, диабета. Неудовлетворенное пассивное ожидание помощи, признания, сексуального удовлетворения перенапрягает парасимпатическую систему организма человека, в результате чего формируются язва желудка, язвенный колит, бронхиальная астма.
Ф. Александер выдвинул векторную теорию, основанную на общих направлениях конфликтных импульсов, заложенных в самом заболевании. Он описал три вектора.
1. Желание объединить, получить, принять (соответствует орально-сосущей стадии, удовлетворяющей либидинозную потребность).
2. Желание исключить, удалить, напасть, причинить вред, разрядиться (соответствует орально-садистической стадии).
3. Желание сохранить, накопить (соответствует анальной стадии).
Следствием конфликтов между перечисленными выше векторами становятся нарушения соматических функций. Так, при спастическом колите у ребенка противоборствуют любовь и агрессия к младшему брату или сестре и одновременно желание сохранить безраздельную любовь родителей. При психосоматических болезнях конфликт вытесняется настолько глубоко, что не осознается, тогда как при неврозе он вытесняется не полностью, а при вегетативных расстройствах – минимально.
Ф. Александер представил развитие психосоматических расстройств следующим образом (рис. 3).
1. Специфический конфликт предрасполагает человека к определенному заболеванию только тогда, когда к этому имеются генетическая, биохимическая или физиологическая предрасположенность.
2. Определенные жизненные ситуации, в отношении которых человек сенсибилизирован в силу своих ключевых конфликтов, оживляют и усиливают эти конфликты.
3. Этот активированный конфликт сопровождается сильными эмоциями, вследствие которых гормональные и нервно-мышечные механизмы действуют таким образом, что возникают изменения в телесных функциях и структурах организма.
А. Мичерлих (Mitscherlich, 1971) и М. Шур (Schur, 1974) разработали концепцию двух уровней защиты от разрушительного воздействия. Первым из них является десоматизация, когда совладание с конфликтом осуществляется исключительно психологическими средствами (ответной реакцией или подключением психологических защитных механизмов). Если психологическая защита не срабатывает, то включаются такие невротические защитные механизмы, как депрессия, навязчивости, фобии.
Когда невротические защиты оказываются недостаточно эффективными, происходит возврат к инфантильному физиологическому способу аффективного реагирования – ресоматизации. Эта идея объясняет, почему невротические симптомы отступают при формировании психосоматической симптоматики и возвращаются при «выздоровлении». Понятно становится также, почему анализ внутриличностного конфликта часто приводит к обострению психосоматической симптоматики.

Рис. 3. Схема развития психосоматических расстройств
П. Федерн (2012) и Дж. Макдугалл (2017) объяснили развитие психосоматических расстройств слабостью Я. Нечеткие границы Я вызывают спутанность и неопределенность в различении физической и психической сфер жизнедеятельности, вследствие чего психосоматик воспринимает психологическую угрозу и как физическую опасность. Непереработанные переживания остаются за пределами границы Я в виде простого ощущения боли и постепенно накапливаются, приводя к психосоматическим и аффективным расстройствам, а также химической зависимости.
Определенные реакции организма могут быть соматическим выражением попытки защитить себя от архаических желаний, которые переживаются как опасные для жизни, подобно тому, как маленький ребенок мог переживать угрозу смерти. Чтобы достичь этой цели, психика в момент опасности посылает телу, как в младенчестве, примитивные сигналы тревоги, не использующие язык и не воспринимаемые человеком как эмоции. Подобные сигналы выглядят как психосоматические симптомы и имеют тенденцию к повторению, навязчивости.
Защитная функция болезни состоит в фиксации внимания на ощущениях, определяющих границы тела, что уменьшает архаический страх быть поглощенным симбиотической или быть брошенным неэмпатичной матерью. Кроме того, наличие физического заболевания защищает от экзистенциального страха смерти: «Болею – значит существую».
Г. Аммон (2000), проанализировал отношения психосоматика с симбиотической матерью, которая воспринимает ребенка сквозь призму постоянной опасности болезней, как хрупкую вещь, которая может легко сломаться. Только болея, ребенок получает эмоциональный доступ к матери и строит свою Эго-идентичность как больной человек, жертвуя «здоровыми» эмоциональными функциями на границе своего Эго. Так образуются «дыры» в Эго, которые компенсируются развитием инструментальных функций (интеллект, память, деловые навыки), культивируемых психосоматической семьей и школой. Психосоматический симптом восстанавливает интеграцию личности и ложится в основу идентичности психосоматического пациента.
Как показал Г. Кристал (2016), у психосоматических пациентов эмоциональная сфера отчуждена от когнитивной. Это объясняется тем, что своей тревожной телесной заботой мать лишает младенца права на самоконтроль и саморегуляцию. Психосоматические пациенты переживают физическую боль вместе с эмоциями или вместо них. Попытки привлечь внимание матери к своим чувствам означают нарушение материнских границ, что вызывает у малыша соматизированный страх смерти. Выходом становится поворот от матери к собственному телу и стремление контролировать его.
Х. Кохут (2017) отмечал, что различные составляющие Я человека формируются в раннем детстве, как результат взаимодействия с родителями. При этом родители переживаются как части себя – Я-объекты, надежные и всемогущие. В дальнейшем в результате интериоризации образуется устойчивое Я с чувством самоуважения, уверенности, значимости. Нарушение Я – Я-объектных отношений возникает вследствие эмоциональной неадекватности родителей и приводит к формированию ущербной Я-структуры ребенка, который без объекта-регулятора не может противостоять влияниям среды и более подвержен возникновению депрессии и психосоматических расстройств.
В работе М. Балинта (2019) проводится различие между неврозами, возникающими в рамках эдипова конфликта, и психосоматозами, обусловленными недостатком эмпатической связи в ранних отношениях с материнской фигурой. Во втором случае формируется базисный дефект, заключающийся в недостаточно устойчивом восприятии своей личности и диффузных границах Я. Из-за этого пациент не может установить комфортную дистанцию в межличностных отношениях.
Больной испытывает постоянную потребность в эмоциональной поддержке, но опасается выразить свои чувства человеку, который ее обеспечивает. Негативные чувства пациента обращаются против него самого, вызывая психосоматические расстройства. В работе с психосоматическими больными Балинт предлагал прорабатывать излишнюю зависимость от значимых объектов и прежде всего от матери.
Исследование психосоматических больных позволило Я. Бастиаансу (2019) выделить точки фиксации в развитии агрессии, на которых может останавливаться или к которым может регрессировать личность. Бегство от собственных побуждений и агрессивности наблюдается у маленьких детей, еще не имеющих адекватных способов разрешения первых проявлений агрессивности. Ребенок проявляет чисто деструктивное поведение, ведь он еще не может регулировать или сублимировать свои агрессивные импульсы.
Протестующее поведение, когда оно сливается с либидинозными побуждениями, может быть как позитивным, так и негативным. Садомазохистское поведение наблюдается в случаях, когда конкурируют две тенденции – к борьбе и к бегству. Предпочтение количественной продукции проявляется в сублимации агрессии, когда ребенок стремится превзойти соперников в результатах продуктивной деятельности.
Деструктивно-соперничающее поведение ведет к уничтожению соперников в борьбе за лидерство. Позитивно-соперничающее поведение состоит в том, что человек признает право соперника на жизнь, только если чувствует свое превосходство в какой-либо сфере. Креативное и конструктивное поведение возможно, когда творческая личность способна следовать своим потребностям, в том числе потребности отдавать себя людям, которых она перестает воспринимать как средства для усиления своей власти.
В числе ведущих психодинамических факторов психосоматических больных Г. Фрайбергер (1999) выделяет депрессивность после потери объекта и нарциссической обиды, орально-агрессивные черты, агрессивную защиту и ограничение способности к самонаблюдению. Он проанализировал «психосоматическую линию развития», которая под рубриками «симптом», «конфликт» и «личностные особенности» включает следующие психосоматические характеристики.
Симптом: эмоциональный обморок, депрессия истощения.
Конфликт: потеря объекта, нарциссическая травма, агрессивная защита.
Личностные особенности:
1) слабость Я с недостаточным самонаблюдением, нарушенным базисным доверием, плохой переносимостью фрустрации, повышенной потребностью в зависимости и минимальной способностью к научению новым эмоциональным установкам;
2) душевная пустота вследствие снижения чувственного переживания и автоматически-механических мыслительных процессов, наряду с плохой психической переработкой из-за недостаточного внутреннего соотнесения с неосознаваемыми фантазиями, что компенсируется описанием телесных ощущений и ипохондрических деталей;
3) орально-нарциссическое нарушение с подчеркнутой склонностью к непроработанным переживаниям потери объекта;
4) защитное поведение с «жалобно-обвиняющими» действиями, включающими интенсивные желания зависимости от «ключевых фигур» с целью вновь завладеть разочаровавшими объектами и компенсировать обиду.
Фиксация на оральных потребностях приводит к негибким способам их удовлетворения – псевдонезависимости и манифестирующей зависимости. При псевдонезависимости трудно осознать «позорное» желание заботы и зависимости, а также успеха. Такие люди, с одной стороны, берут на себя преувеличенную, хотя и обезличенную «профессиональную ответственность» за других, а с другой стороны, в своих межличностных связях они проявляют интимофобию с раздражительностью и скрытой враждебностью. Необходимость лечиться эти люди признают лишь при официальном назначении им постельного режима или госпитализации. Свои успехи они воспринимают как угрозу, поскольку радоваться для них означает зависеть от когда-то запретных и поэтому опасных желаний.
Манифестирующее зависимое поведение, напротив, обусловлено желанием быть окруженным заботой. При осуществлении этого желания пациенты могут быть как раболепны, так и требовательны. На уровне сознания они могут стараться заслужить заботу подчеркнутым вниманием к партнеру, а на самом деле неосознанно обнаруживают рентные установки и тенденцию к манипулированию.
Г. Фрайбергер ввел понятие «прегенитальное нарушение созревания», которое выражается в двух базисных конфликтах. Конфликт зависимости – независимости проявляется в сильном развитии инфантильного желания зависимости, которое интерферирует с интенсивным желанием зависимости и тем самым вызывает у пациента трудности в общении. Конфликт близости – дистанцирования отражается в сочетании инфантильной зависимости с противоположным желанием межличностного дистанцирования, в результате чего значимый другой одновременно сильно притягивает и отталкивает. Вокруг этих базисных конфликтов развиваются следующие психодинамические факторы:
1. Эмоциональная сдержанность, скрывающая недостаточное принятие и самопринятие, а также неосознанный страх высвобождения ранее вытесненных психотравм. Типичными являются следующие психологические защиты: инфантильная регрессия орально-нарциссических желаний, отвращение, подавление агрессии, перенесение реакций на другой объект, проекция, формирование реакций и медицински ориентированное самообеспечение.
2. Нарциссические обиды, кроме эмоциональной сдержанности/недостаточности, включают переживание утраты и фрустрации со снижением самооценки. Объектами утраты могут быть как значимые другие, так и здоровье, удаленные в ходе хирургической операции органы, а также материальные возможности, престиж и т. п. Утраты могут быть реальными, угрожающими и воображаемыми.
3. Фрустрационная агрессия возможна в результате переживания нарциссической обиды по поводу утраты. Агрессия направлена на значимый объект, но вследствие страха окончательно его лишиться в результате уничтожения переносится на другие объекты, в том числе на собственное тело и медицинских работников. На эрзац-объекты переносятся и такие переживания фрустрации, как страх и печаль. Таким образом хрупкая личность пациента, с ее сложными эмоциональными связями и проблемами, выводится из конфликта.
4. Депрессия. Результатом описанной динамики является:
а) депрессивный страх отторжения, проявляющийся в чувстве одиночества, непонятости, ненужности;
б) депрессивное чувство беспомощности, сопровождающееся переживанием собственной неполноценности, упадком духа;
в) депрессивное чувство безнадежности – от апатически-угрюмой покорности до взрывов отчаяния с суицидальными попытками.
Г. Аммон (2000) разделил психосоматические заболевания на две группы: первичные и вторичные (табл. 4). Он указал на защитный характер психосоматического процесса, который помогает пациентам либо избежать сознания тяжелейших жизненных проблем, либо отгородиться от разрушительного поведения объектных фигур при помощи болезни. Вместо вопроса «Кто я?», связанного с экзистенциальной тревогой, такой человек постоянно ищет ответ на вопрос «Что со мной?». Таким образом, вопрос о собственной идентичности подменяется вопросом о симптоме.
Таблица 4.
Группы психосоматических заболеваний по Г. Аммону

Психосоматическое расстройство у ребенка выполняет, по Г. Аммону, двойную функцию:
1. Мать получает возможность избежать внутреннего конфликта амбивалентного отношения к ребенку и использовать ту форму взаимодействия с ребенком, которая созвучна ее бессознательным требованиям и страхам. В роли матери больного ребенка она получает поддельную идентичность, позволяющую отграничить себя от ребенка.
2. Приспособление к бессознательному конфликту амбивалентности матери предоставляет ребенку свободу для развития функций своего Я в других зонах.
Со времен З. Фрейда (Брейер, Фрейд, 2018) превращение психологических симптомов в двигательные и чувствительные нарушения, не соответствующие ожидаемой локализации и имеющие символическое значение, называется конверсией (лат. conversion – превращение). Защитное удаление из сознания нежелательных переживаний составляет «первичную выгоду» симптома. Имеется также «вторичная выгода» от нарушенных функций, позволяющая избегать неприятных обязанностей и пользоваться вниманием. Для больных конверсионными (истерическими, псевдоневрологическими, диссоциативными) расстройствами характерны эгоцентризм, самовнушаемость и внушаемость, аффективно-непоследовательное мышление, патологическая лживость, демонстративно-шантажное поведение и склонность к беспорядочным полупроизвольным ситуационным реакциям. Им свойственна аггравация (лат. aggravo – утяжелять), то есть произвольные попытки усилить симптоматику, и симуляция (лат. simulatio – притворство), под которой понимается намеренное изображение определенной болезни.