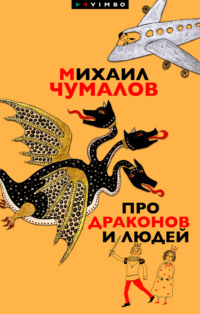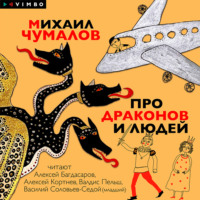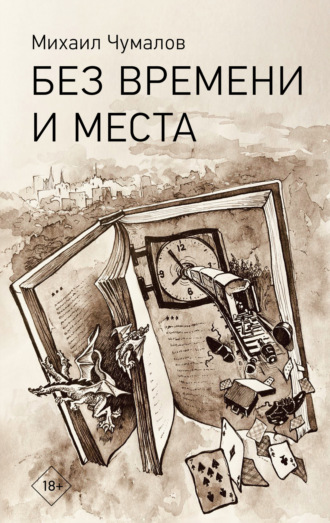
Полная версия
Без времени и места
Первые дни у моря прошли для Алёны спокойно. В Севастополе ей всё было ново. Слава показывал ей корабли, катал по бухте на катере, по вечерам они вместе любовались закатами. Но затем всё пошло кувырком. Природа взяла своё: Слава не обходил вниманием ни одной симпатичной девушки, и едва заметный сначала холодок в его отношении к Алёне с каждым днём становился всё более очевиден. Ночью, прижимаясь к тёплой спине любимого, Алена наслаждалась тихим счастьем, но дни были отравлены ядом ревности. Частенько Слава оставлял её одну на пляже, ссылаясь на какие-то дела. Всё разрешилось, когда, возвращаясь однажды в гостиницу через прибрежный парк, Алёна застала Славу на скамейке в обнимку с какой-то незнакомой девицей. Объясняться не было ни сил, ни желания. Алёна наскоро покидала в сумку самое необходимое, оставив в гостиничном номере свои замечательные новые купальники и сарафаны, и пешком отправилась на вокзал. И вот она здесь – на верхней боковой полке двенадцатого вагона – наедине с опустошённой душой и чёрными мыслями.
* * *Сергей Ильич – тот самый мужчина в лакированных штиблетах и с чёрным «дипломатом» – занимал верхнее место номер восемнадцать в соседнем от Андрея отсеке, а именно в том, где ехал со своей мамашей Заевший Мальчик. Но его нескончаемая песня не беспокоила Сергея Ильича, погружённого в тревожные думы. Тяготило его совсем другое. Сергей Ильич готовился впервые в жизни получить взятку и по этому поводу нервничал. Ехать ему предстояло до Белгорода.
Сергей Ильич служил директором небольшого завода в Симферополе, и волею судьбы в его распоряжении оказался заводской профилакторий на Южном берегу у самого моря. В том самом профилактории нашёлся неиспользуемый участок, который в свою очередь приглянулся председателю богатого белгородского колхоза в видах устройства там дачи. От Сергея Ильича требовалось немного. Это и нарушением-то назвать можно только с натяжкой: всего лишь подписать с колхозом договор о сотрудничестве и оформить участок как сельхозугодья для подсобного заводского хозяйства. С благородной целью кормить рабочих выращенными там витаминами. Но за это «немногое» колхозник предложил солидную по меркам Сергея Ильича сумму.
Деньги ещё только ждали Сергея Ильича в Белгороде, но страх расплаты уже сковывал его нежную душу. Ещё сильнее терзала её моральная сторона предприятия. Дело в том, что Сергей Ильич был честным человеком. До сих пор не то что в криминальных делах, но и просто в сколько-нибудь неблаговидных поступках он не был замечен. Сказывалось родительское воспитание, а родители Сергея Ильича имели сталинскую закалку и соответствующие принципы. Положить свою жизнь на алтарь государственного блага, не требуя ничего взамен, было для них единственно возможным выбором. Так и сына воспитывали. Отец Сергея Ильича, в прошлом главный инженер большого и важного предприятия, за всю жизнь ни разу не воспользовался своим положением в личных целях. Потому они с матерью, бывшим районным терапевтом, и остались, как любил приговаривать папа, «с голым задом», то есть с обычной советской пенсией и без накоплений, сожранных денежной реформой. Сергею Ильичу и представить было страшно, что будет с папой, если тот узнает, что его сын – взяточник.
Сам Сергей Ильич к своим сорока пяти годам капиталов тоже не скопил. Не нищенская вроде бы зарплата разлеталась неведомо куда: Сергей Ильич воспитывал троих лоботрясов переходного возраста и соответствующих запросов. Семья требовала авто, но накопить на него никак не удавалось. А в жизненных планах Сергея Ильича значился ещё и маленький домик у моря, чтобы достойно встретить старость. Поэтому семь тысяч наличными, предложенные овощеводом – цена новенькой «копейки», – оказались слишком большим искушением. И Сергей Ильич решился: «Будь что будет, один раз возьму – и всё».
Бедный Сергей Ильич! По чистоте душевной он ещё не догадывался, что в карьере взяточника главное начать, а дальше она сама пойдёт. И что приводит она чаще всего не в собственный домик на взморье, а на лагерную шконку. Ничего этого Сергей Ильич пока не знал, потому и купил билет в Белгород.
Передача денег была назначена на утро следующего дня, но это мероприятие уже нанесло удар по семейному бюджету будущего взяточника. Требовалось одеться сообразно случаю. Приличный костюм и галстук в гардеробе нашёлся, а вот с обувью вышло неладно. Выходные туфли Сергея Ильича стоптались и покрылись трещинами. Чувствуя себя уже почти богачом, Сергей Ильич счёл зазорным ехать за деньгами в такой обуви. Пришлось срочно купить у спекулянта пару новеньких лакированных туфель. Они немного жали, вскоре Сергей Ильич натёр себе пятку, и это ухудшило и до того неважное состояние его души. Куплен был также большой чёрный «дипломат» – ну не везти же в самом деле такие деньги в хозяйственной сумке! Лишь в самый последний момент Сергей Ильич подавил в себе искушение дополнить свой облик дымчатыми очками. В них он безусловно являл бы собой персонаж шпионского фильма. Впрочем, и без таких очков в дурно пахнущей полутьме плацкартного вагона Сергей Ильич выглядел столь же чужим, как чиновник в парадном костюме для торжественных заседаний, оказавшийся вдруг на нудистской вечеринке.
На этом траты не закончились: пришлось выкупить два билета в спальном вагоне на обратную дорогу из Белгорода. По понятным причинам будущий нарушитель советских законов в особо крупном размере желал ехать в купе один. А вот на дороге «туда» Сергей Ильич, потративший уже почти всю зарплату, решил сэкономить. Так он и оказался одним из героев нашего повествования.
* * *В четвёртом купе вагона номер семь играли в карты. Два закадычных приятеля Виталик и Валера – те двое с уставшими и испитыми лицами, которых Андрей приметил на перроне, – сели в поезд в Севастополе. Они возвращались домой после месячного отпуска на Южном берегу Крыма.
Валера и Виталик были неразлучны уже много лет. Их объединяла тайная страсть, носящая французское название. Не подумайте ничего плохого – речь идет о преферансе. Эта игра составляла главное содержание жизни каждого из них. Валера был завхозом одного из ленинградских театров, Виталик служил там же реквизитором, и почти всё свободное от работы время друзья проводили за карточным столом. Там они с успехом бомбили ушастых лохов, выкачивая из тех лишние деньги.
Нет, они не были профессиональными игроками, но слыли матёрыми любителями, каковых в преферансном мире называют «зубрами». Секрет успеха приятелей на зелёном сукне был непритязательно прост: Валера и Виталик играли «на одну руку», то есть сообща против партнера. В особых случаях, когда игра шла по-крупному, не брезговали и простейшими шулерскими приёмами вроде «забитых», то есть заранее подготовленных колод карт. Требовалось только в нужный момент вбросить такую колоду в игру незаметно для других игроков: друзья быстро освоили такой трюк. Эта тайная жизнь давала хорошую прибавку к зарплате, но дело было не только в деньгах. Азарт и удовлетворение от удачно проведённых комбинаций наполняли существование приятелей эмоциями. Так они оба дожили до пятидесяти и менять modus vivendi не собирались.
Раз в год Виталик и Валера вместе проводили отпуск на курортах черноморского побережья. Их влекли туда не южное солнце и ласковое море и даже не крепость массандровских вин, а повышенная концентрация «ушастых». Расслабленные бездельем, разморённые солнечными ваннами, лохи особенно охотно отдавали заработанное. Однако нынешний сезон не удался. Курортники играть не хотели, а если и садились за карты, то «по маленькой». Валера и Виталик возвращались домой почти без прибыли, едва окупив расходы на поездку. Оставалась ещё небольшая надежда поправить дела в поезде. Друзья открыли пошире дверь купе, раскинули на столе карты и принялись неспешно перекидываться в «гусарика». Играть друг с другом было неинтересно, да и незачем, но они всё равно усердно стучали картами по столу: приманивали лоха «на живца».
В Симферополе к ним в купе подсел третий.
– Георгий, – так представился вошедший, и Валера внимательно оглядел его с ног до головы. На роль перспективного лоха тот явно не тянул: в немодных очках, затрапезной матерчатой куртке, с видавшим виды чемоданом из искусственной кожи, он являл собой типичный образчик советского инженера или мелкого служащего, который живёт от зарплаты до зарплаты.
– Валерий. А это Виталий. Куда путь держите, Георгий?
– В Харьков. Домой еду.
– Отдыхали? – поинтересовался Валера.
– Нет, работал. В командировке был, – ответил Георгий и почему-то усмехнулся. А затем спросил, кивнув в сторону стола с разложенными картами: – Преферансом развлекаетесь?
– Да так… От делать нечего, – уклончиво ответил Валера. Всё стало ясно: как партнёр Георгий им не интересен.
Разговор затух. Георгий залез на свою верхнюю полку, и оттуда наблюдал за игрой, время от времени подавая реплики по поводу происходящего в ней и отпуская понятные только преферансистам прибаутки. Всем своим видом Георгий показывал, что и сам не прочь присоединиться к играющим. Валера и Виталик его намёки игнорировали: дожидались более денежного партнёра. Так прошло ещё два часа.
* * *Итак, Сергей Ильич закинул пустой пока «дипломат» на верхнюю полку, сам сел внизу напротив Заевшего Мальчика и застыл, погрузившись в свои тяжёлые мысли. А тем временем песня мальчика не прерывалась ни на минуту:
– Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам… Пусть бегут неуклюже пешеходы… – и так бесконечно.
В окружающих мало-помалу копились нехристианские чувства. Если поначалу на ребёнка поглядывали с сочувствием – что, дескать, взять с ущербного, – то по прошествии часа сочувствие сменилось раздражением, а потом и злобой. Даже Сергей Ильич, всерьёз, казалось, застрявший в иных мирах, стал подавать признаки жизни: заёрзал по скамье, прокашлялся и наконец осмысленно и в упор стал смотреть на мучителя. На мальчика, впрочем, это не произвело впечатления.
Пшеничные Усы, возлежавший в тренировочных штанах и мятой рубахе на верхней боковой полке, не выдержал первым: пригрозил вызвать милицию, если мать мальчика немедленно не успокоит ребенка. Но та только молча вздыхала, и Пшеничные Усы сдался, отвернулся к стене и закрыл голову подушкой.
Некоторое облегчение наступило, когда пришло время обедать. Неутомимый певец и за едой ещё пытался мычать с набитым ртом, но потом всё же умолк, и обитатели вагона получили десятиминутную передышку.
После обеда концерт продолжился. Правда, мальчик сменил репертуар, но и новая пластинка оказалась испорченной:
– Любо, братцы, любо… любо, братцы, любо… любо, братцы, любо… – без остановки голосил мальчик.
Тут уж и Андрея, обычно очень сдержанного, стали охватывать чёрные мысли. От этой монотонной долбёжки по ушам у него разболелась голова. Казалось, ещё немного, и он сам сойдет с ума. И тогда совершит что-нибудь ужасное. Например, выкинет этого мерзкого мальчишку в окно, а там будь что будет!
Андрей встряхнул головой, чтобы отогнать эту мысль, и вышел покурить. За окном тянулся степной пейзаж, однообразный, как песнь Заевшего Мальчика. Торчать в тамбуре часами было глупо, и Андрей решил отвлечься чтением.
Впрочем, та единственная книга, которая лежала у него в рюкзаке, мало для этого подходила. Это было дореволюционное, 1915 года, издание кантовской «Критики чистого разума» в переводе Лосского. Андрей нашёл этот раритет в куче старых газет, книг и прочего бумажного хлама в макулатурной палатке. Соседка Андрея, приёмщица этой самой палатки, время от времени позволяла ему по-соседски рыться в сданной макулатуре в поисках букинистических изданий. Если Андрей что-нибудь из палатки забирал, то взамен честно приносил связку старых газет: для соседки ценность бумажного издания определялась исключительно его весом.
Зачем Андрей взял эту книгу с собой в поездку, – он и сам не знал. В экспедиции было не до метафизики, и Кант месяц пролежал на дне рюкзака. Но теперь выбора не было. Андрей раскрыл пожелтевший переплёт и прочитал первую фразу предисловия: «На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума».
Читать дальше было лень. Андрей поднял глаза от книжки и увидел Борину мамашу, впившуюся зубами в крымский персик. Сладкий сок тёк по её подбородку. «Интересно, – подумал Андрей, – осаждают ли эту женщину вопросы, от которых она не может уклониться? Или старик Кант выдаёт желаемое за действительное? Беспокоят ли её размышления о смысле жизни или о связи реальности с сознанием?» Как знать. Сейчас её явно беспокоит то, что всё-таки пришлось заплатить за детский билет.
Или вот Земеля, например. Навязаны ли ему самой природой вопросы о свободе воли? О добре и зле? Вряд ли. Солдатская жизнь не даёт почвы для трансцендентных размышлений. Подъём и отбой – по расписанию. Одежда – по уставу. Проштрафился – накажут. Велят бежать – беги. Прикажут стрелять – стреляй, не размышляя, в кого и зачем. И всё же интересно знать, как этот человек определяет для себя, что есть добро и что есть зло? Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
Андрей вспомнил, что ещё несколько минут назад он и сам был готов бить Заевшего Мальчика по голове, чтобы прекратить его песню. И – вот что интересно – большинство окружающих явно этот его поступок бы молчаливо одобрили. Получается, что Кант прав, что и для него, Андрея, понимание границ между добром и злом – это тоже вопрос, выходящий за пределы возможностей разума.
Да, читатель, представь себе: такие мысли иногда забредают в голову двадцатитрехлетнего парня, особенно если до этого он прочитал несколько умных книг. Но они забредают только тогда, когда рядом нет весёлой компании сверстников. И ненадолго. Стоит появиться на столе стаканам с вином, а в руках гитаре, стоит присесть рядом красивой девушке – и мысли эти тотчас уходят в глубины сознания и дремлют там до следующего подходящего случая.
– Любо, братцы, любо… – раздавалось из соседнего купе. Пока Андрей думал о высоком, Заевший Мальчик так ни разу и не перешёл за пределы первой строчки этой замечательной песни. Спасение пришло, откуда не ждали. Оно явилось в облике нетрезвого дембеля. Земеля возник в отсеке неведомо откуда, плюхнулся на сиденье рядом с Сергеем Ильичом, отдавив тому ногу, поставил бутылку на стол и минуту-другую внимательно слушал речитатив мальчика, одобрительно кивая в такт головой и прихлопывая ладонями, а затем принялся подпевать вполголоса:
– Любо, братцы, любо… Любо, братцы, любо…
Мальчик уставился на Земелю с тревогой, придвинулся поближе к матери, но пение не прекратил.
– Нам тут ещё хора имени товарища Пятницкого не хватало, – пробурчал с боковой полки Пшеничные Усы, но ни мальчик, ни Земеля не обратили на него внимания. Дуэт продолжился.
– Хорошо поёшь, боец, – произнес наконец дембель, и запах ядрёного перегара обдал находящихся в купе. – В армии запевалой будешь. Только слова выучи… А эту знаешь: «Идёт солдат по городу»?
Заевший Мальчик вопроса будто и не слышал. Он продолжил талдычить своё «любо, братцы», но глаз с дембеля не спускал. Тот сдаваться не собирался:
– Конфету хочешь? – Он достал из кармана кителя леденец в засаленной обёртке и протянул Заевшему Мальчику. Тот ещё плотнее прижался к матери, но петь не бросил. Тогда Земеля выкинул фортель, какого не ожидал никто. Дождавшись нужного момента, он вдруг запел неожиданно красивым голосом:
– …Любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить.
Пшеничные Усы скинул с уха подушку, из-за стенки отсека показалась чья-то всклокоченная голова. Пел Земеля хорошо, не фальшивил и старательно выводил ноты. При первых же звуках его голоса мальчик поперхнулся, будто слова песни застряли в его горле, и испустил взвизг, похожий на тот, что издает игла проигрывателя, соскальзывая с испорченной пластинки. Глаза его наполнились ужасом, он бросился лицом в колени матери и зарыдал. Мать принялась гладить и успокаивать ребёнка. Через несколько минут плач утих, и вагон вздохнул с облегчением. Продолжения концерта не последовало.
Земеля поднялся с видом рыцаря, победившего дракона, сунул бутылку под мышку, подмигнул Сергею Ильичу и двинулся нетвёрдой походкой к тамбуру, задевая плечами переборки.
Напряжение в вагоне спало. Борина мамаша извлекла из многочисленных пакетов гору всяческой снеди и приступила к обеду. Сергей Ильич, который с минуты посадки в поезд не произнес ещё ни слова, тяжело вздохнул. Происшествие несколько отвлекло его от тяжёлых мыслей. Сидеть так до самого Белгорода было глупо. Ещё раз вздохнув, Сергей Ильич снял пиджак, галстук и ботинки и очень аккуратно, чтобы не помять брюки, улёгся спиной на свою верхнюю полку. Вагон покачивало, колёса монотонно отбивали такт, и вскоре Сергей Ильич уснул. И виделись ему разные сны. Но об этом чуть позже.
* * *Объявление в вагоне-ресторане гласило: «Каждый первый понедельник месяца у нас проводится День качественного приготовления пищи». Был как раз первый понедельник октября, но, несмотря на столь заманчивое предложение, ресторан был почти пуст. Был занят только один столик, за ним сидел мужчина. Он появился здесь вскоре после отправления из Симферополя и с тех пор в одиночестве пил самый дорогой коньяк, который нашёлся в буфете, закусывая только ломтиками лимона.
Официантки Галина и Элеонора уже второй час пребывали в волнении. Причиной его и был тот самый посетитель за третьим столиком. Мужчина, пьющий коньяк, пусть и очень дорогой, не редкая птица в вагоне-ресторане. Но этот был особенным: это был мужчина Элиной мечты, и она ощущала это всем своим нутром. При одном взгляде на этого человека у Эли спирало в груди и начинали дрожать коленки.
Тут надо сделать небольшое отступление и рассказать читателю, кто такая эта Элеонора и почему ресторанный гость произвел на неё столь сильное впечатление.
Раньше Элю звали Леной, а чаще Леночкой, и жила она в Мелитополе. Леночка выросла без отца. Её родитель, родом из закарпатских поляков, ушёл из семьи, когда его дочка пребывала в самом нежном возрасте, и потому не оставил заметного следа в её жизни, как и в жизни её мамы, скромной работницы мелитопольского ОРСа. Красавец Казимир пронёсся сквозь их судьбы стремительно, как комета Галлея проносится через Солнечную систему, лишь слегка зацепив Землю своим элегантным газовым хвостом. Впрочем, небольшое наследство Леночкин папа за собой оставил. Оно включало в себя как вещи приятные и полезные, а именно: роскошные ярко-рыжие Леночкины кудри, горделивую осанку и редкое красивое отчество, так и мало подходящую к нашим вкусам, если не сказать совершенно непотребную, фамилию Гнида.
Напрасно мама объясняла Леночке, что ничего плохого в её фамилии нет и что она означает вовсе не то, что вообразили себе недалёкие люди, а происходит от старого славянского слова «гнiдий», означающего «темно-рыжий», «гнедой». И вообще эту фамилию надо произносить с ударением на второй слог. Все эти уговоры не избавили Леночку от насмешек и порождённых ими комплексов. Фамилия стала её проклятием. По понятным причинам школьные учителя избегали часто произносить фразу «Гнида, к доске», и оставленная их вниманием девочка получила образование более чем поверхностное. То же повторилось и в кулинарном училище, куда Леночка поступила после школы и которое окончила кое-как, «на троечки».
Сверстники мужского пола Леночку игнорировали, несмотря на её привлекательную внешность. Девушка пала духом, замкнулась в себе и лишь мечтала о совершеннолетии, когда советский закон позволит ей сменить фамилию. Целыми днями она листала газеты и журналы, но в содержание не вдумывалась, а лишь отмечала в них редкие и красивые фамилии, выбирала себе будущее. Впрочем, одну статью в журнале «Работница» Леночка прочитала внимательно. Там речь шла о том, как имя влияет на судьбу человека. Рассказывалось о людях, которые, сменив имя, изменили свою жизнь к лучшему. И Леночка решила: менять – так менять, не только фамилию, но и имя. Так вместо Елены Гниды на свет появилась Элеонора Казимировна Желанная. К отчеству у девушки претензий не было, его она оставила прежним.
Перемена имени оправдала себя в полной мере и очень скоро. В душе новоявленной Элеоноры проснулись амбиции, о которых Леночке и не грезилось. Теперь она претендовала на самое лучшее. Вместе с новыми запросами откуда-то появились ясность мышления и деловой подход, в голове сложился план, как это лучшее заполучить. План состоял из одного пункта: как можно скорее нужен мужчина, да не какой-нибудь, а особенный, способный лучшее обеспечить. Тут же сформировался список требований к потенциальному принцу. Он должен быть, во-первых, успешным, во-вторых, похожим на кинозвезду, и, в-третьих, жителем одной из двух столиц. Последний пункт казался Элеоноре наиболее важным: прозябать всю жизнь в Мелитополе она больше не собиралась.
Ожидать, что подобный кандидат сам явится в мелитопольскую заводскую столовку, где кухарничала после училища Элеонора Казимировна, не приходилось. И девушка проявила решительность и смекалку. Она устроилась официанткой в вагон-ресторан поезда, курсировавшего между Москвой и Крымом. Где же ещё ловить столичного мажора, как не там? В первый же рабочий день девушка додумалась прикрепить на грудь маленькую табличку – теперь такие называют бейджами, но тогда таких слов ещё не знали – на которой было аккуратно выведено фломастером её новое имя: Элеонора. На эту приманку должен был клюнуть будущий муж.
Первый месяц работы прошёл впустую. Если в ресторане и появлялись москвичи и ленинградцы без жён, то какие-то невзрачные, до высокой планки, установленной Элеонорой, не дотягивающие. Они пили пиво, ели котлеты и особого внимания не заслуживали. Но вот случилось чудо. В ресторан пришёл он, он был один и в нём трудно было не узнать с первого взгляда представителя того слоя общества, о жизни которого Леночка-Элеонора имела представление только из кино.
Высокий, осанистый, с идеальной стрижкой на голове, в элегантном костюме, сшитом явно не в СССР, в импортной рубашке с запонками, мужчина выглядел в замызганном интерьере вагона-ресторана инопланетным существом. Властное лицо и квадратный волевой подбородок говорили об упорстве и непреклонности. Кто он? – гадала девушка. Начальник? Артист? Партийный чиновник? Высокопоставленный военный? Неважно. Было очевидно, что этот человек – хозяин своей жизни и держит её в строгой узде.
Решительная Элеонора вдруг куда-то испарилась и в теле молоденькой подавальщицы вновь оказалась бедная Леночка, всё естество которой трепетало от магнетической силы, излучаемой альфа-самцом. Подавляя в себе инстинктивный страх, на ватных ногах она принесла мужчине заказанный коньяк, едва не уронив поднос от волнения. Если бы мужчине пришла в голову идея взять её за руку и повлечь за собой, она безропотно пошла бы следом, не спрашивая куда и зачем. Но тот был погружён в свои мысли и не обращал на девушку внимания.
Пил мужчина много, но держался прямо. Галина, женщина куда более опытная в амурных делах, чем Эля, и к тому же видевшая за годы работы в этом ресторане и больших начальников, и даже известных киноактёров, тоже не осталась равнодушной. Обычно с клиентами грубоватая, на сей раз она источала любезность. Не раз подходила она к столику, узнать, не требуется ли гостю ещё чего-нибудь, соблазнительно выпячивала грудь и постреливала в посетителя томными взглядами больших карих глаз.
Увы, все выстрелы отрикошетили в никуда, и все знаки остались без ответа: предмет внимания потребовал ещё коньяку, но вряд ли заметил, что его обслуживает уже другая официантка.
* * *Из репродуктора поездного радио негромко звучал голос Аллы Пугачёвой: «Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь», настраивая обитателей вагона на философский лад.
В двенадцатом вагоне наступила тишина и скука. У пионеров был тихий час, и обе вожатые ушли их утихомиривать. Их голоса доносились издалека. Остальные сидели молча. Молодой человек на верхней полке что-то записывал в блокнот. Кто-то спал, другие молча пялились в окна. С посадки в Симферополе не прошло и часа, но Андрею казалось, что вечность. Он следил, как за стеклом непрерывная нить проводов рисует причудливую синусоиду, то поднимаясь к верхнему краю оконного прямоугольника, то срываясь вниз. Это однообразное бесконечное колебание нагоняло тоску. После месяца жизни, наполненной событиями и впечатлениями, сидеть без дела было невыносимо. Андрей подумал, что ещё целые сутки ему предстоит видеть этот нескончаемый бег проводов.
Он представил себя во чреве гигантского животного, бегущего по степи. Ритмичный стук колёс – как мерное биение его железного сердца, которое на стрелках срывается аритмией, а синусоида проводов – кардиограмма. Словно в ответ на его мысли стальной зверь издал призывный вопль – это машинист потянул ручку гудка. Снаружи тянулся унылый и безлюдный степной пейзаж.