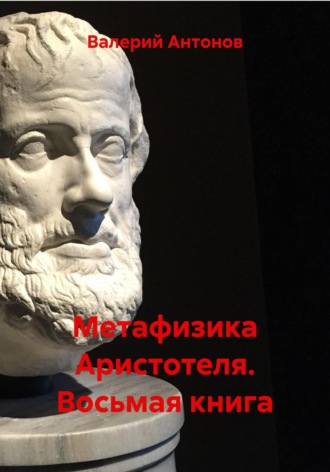
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Восьмая книга
А.В. Кубицкий акцентирует различие между формой и составной сущностью. Форма (второй смысл субстрата) «отделима логосом», то есть мы можем мыслить ее отдельно (понятие «души» без тела), но в реальности она существует только в материи. Составная сущность (третье) – это эмпирическая индивидуальная вещь, которая подвержена generation и corruption.
Р. Хэйнеман (Robert Heinaman) в статье «Activity and Change in Aristotle» обращает внимание на сложный пассаж о делимости. Чувственная субстанция (третье) «абсолютно делима» (например, тело можно разделить на части). Форма (например, душа) может считаться «делимой» лишь в акцидентальном смысле (если делимо тело, которому она присуща), но сама по себе она неделима (душа как форма целостна). Материя же потенциально делима до бесконечности.
Критическое описание: Это центральный абзац главы, где Аристотель применяет результаты Книги 7 к чувственным субстанциям. Он вводит ключевое для всей Книги 8 различие между потенциальностью (материя) и действительностью (форма). Конкретная вещь – это актуализация формы в материи.
6: Материя как субстанция и основа всех измененийЯсно, что материя – это тоже субстанция, ибо во всех изменениях на противоположное есть нечто, лежащее в основе изменений: так, например, в случае локальных изменений то, что иногда здесь, иногда в другом месте; в случае количественных изменений то, что сейчас так велико, иногда меньше или больше; в случае качественных изменений то, что сейчас здорово, иногда [14] болеет. Точно так же и в изменениях субстанции: то, что сейчас находится в процессе становления, в другой раз в процессе исчезновения; то, что сейчас лежит в основе как одно [15] это, в другой раз в частном порядке.
Комментарии и разъяснения:
С. Воджин (Stephen Voss) в «Aristotle’s Metaphysics: Books Z and H» указывает, что Аристотель обосновывает статус материи как субстанции (в одном из значений) через ее функцию быть субстратом (ὑποκείμενον) для любого изменения. Это аргумент от преемственности: изменение невозможно, если нечему изменяться.
Д. В. Бугай проводит различие: материя является субстанцией не в первичном смысле (как форма или синтез), а в смысле субстрата, «подлежащего» – того, что сохраняется при изменении и является его носителем. Это «вторичный» и производный статус.
А.Ф. Лосев подчеркивает, что примеры Аристотеля показывают иерархию изменений. Самый фундаментальный вид изменения – субстанциальное (возникновение/уничтожение), и для него тоже должен быть свой субстрат. Этим субстратом и является первоматерия (πρώτη ὕλη), чистая потенциальность.
Критическое описание: Аристотель расширяет понятие материи. Это не только физический субстрат (как дерево для статуи), но и фундаментальный онтологический принцип – то, что остается тождественным при любом изменении, включая самое радикальное – возникновение и уничтожение самой вещи.
7: Отличие субстанциального изменения от акцидентальныхПоследнее изменение, изменение по субстанции, влечет за собой и другие изменения, но оно не следует за одним или двумя другими изменениями в обратном порядке. Ибо то, что имеет материю для локальных изменений, не обязательно в то же время имеет материю для становления и исчезновения [16 ]. Разница между становлением как таковым и относительным становлением объясняется в физических книгах.
Комментарии и разъяснения:
У.Д. Росс (W.D. Ross) поясняет, что это утверждение о несимметричности отношений между видами изменений. Субстанциальное изменение (рождение/смерть) влечет за собой прекращение всех акцидентальных изменений (больной человек умирает, и его качество «болезнь» исчезает вместе с ним). Но обратное неверно: акцидентальное изменение (перемещение, изменение размера или качества) не влечет за собой субстанциального изменения.
Д. Босток (David Bostock) видит здесь уточнение понятия материи. Материя для акцидентальных изменений – это уже оформленная субстанция (человек как материя для качества «здоровья»). Материя же для субстанциального изменения – это первоматерия, чистая потенция. Не всякая вещь, способная к движению (имеющая «материю движения»), способна к возникновению и уничтожению (например, небесные тела, по Аристотелю, вечны).
В.П. Лега отсылает к «Физике» Аристотеля (Кн. V), где подробно разбираются виды изменений. «Становление как таковое» (γένεσις ἁπλῆ) – это возникновение самой субстанции. «Относительное становление» (γένεσις τις) – это изменение качества, количества и т.д. уже существующей субстанции.
Критическое описание: Этот абзац служит важным ограничением. Аристотель предостерегает от отождествления материи как субстрата для движения с материей как субстратом для бытия. Это разные уровни анализа. Тем самым он готовит почву для более глубокого исследования материи как потенциальности в последующих главах.
Синтез всех комментариев по итогам главыПервая глава Книги 8 выполняет три ключевые функции:
Синтезирующая: Она выступает как мост между апоретической и аналитической Книгой 7 (Z) и систематизирующей Книгой 8 (Θ). Аристотель не просто повторяет итоги, а переформулирует их в новой перспективе, акцентируя дихотомию потенциальность/действительность как ключ к пониманию чувственной субстанции. Он отбирает из прошлого анализа только те элементы, которые работают на его текущую задачу: отрицание общего и рода как субстанций и утверждение формы, сути бытия и субстрата как основных кандидатов.
Программная: Глава четко очерчивает предмет исследования – чувственные субстанции, обладающие материей. Платонические идеи и математические объекты намеренно исключаются из рассмотрения как нерелевантные для решения проблемы изменения и становления. Это позволяет Аристотелю сфокусироваться на имманентной структуре физического мира.
Концептуальная: Вводится и обосновывается расширенное понятие материи. Материя – это не просто «вещество», но фундаментальный онтологический принцип, субстрат всех видов изменения. Однако ее статус как субстанции – производный и вторичный по отношению к форме. Важнейшим достижением главы является ясное определение материи через потенциальность («то, что не фактически, а лишь потенциально является этим»), а формы – через действительность и понятийную отделимость.
Критический пафос главы направлен против платонизма: не общее и род, а конкретная форма, реализованная в материи, является подлинной сущностью вещи. Однако Аристотель не отрицает вовсе роль материи, а переосмысляет ее, отводя ей роль необходимого, но пассивного начала, которое обретает определенность и бытие только через форму. Таким образом, глава закладывает фундамент для центральной темы всей книги – исследования динамического отношения между возможностью (δύναμις) и осуществленностью (ἐνέργεια) в самой сердцевине бытия
Глава 2. Форма как действительная субстанция и принцип бытия.
Общий контекст: Если Глава 1 была мостом, подводящим итоги Книги 7 и вводящим ключевые понятия материи и субстрата, то Глава 2 совершает решающий поворот к форме (εἶδος) как к действительной субстанции (οὐσία ἐντελεχείᾳ) и принципу бытия. Здесь Аристотель показывает, как форма организует материю и является тем, что сообщает конкретной вещи ее сущность и definable identity.
1: Цель исследования: от материи к форме.[1] Поскольку та субстанция, которая является субстратом и материей, общепризнанна, но существует лишь потенциально, остается [2] выяснить, что же является реально существующей субстанцией разумного.
Комментарии и разъяснения:
А.Ф. Лосев видит здесь прямое продолжение мысли конца первой главы. Установив, что материя – это лишь потенциальная субстанция, Аристотель теперь ставит центральный вопрос всей своей онтологии: что же является актуальной, действительной субстанцией, тем, благодаря чему вещь есть то, что она есть на самом деле? Фраза «субстанцией разумного» (τῆς νοητῆς οὐσίας) указывает не на умопостигаемый мир Платона, а на то, что является сущностным, формальным принципом, постигаемым умом (λόγῳ) в чувственной вещи.
Д. В. Бугай подчеркивает, что этот вопрос снимает возможное недоумение читателя: если материя – это субстанция, то почему мы не называем грудку кирпичей домом? Потому что им не хватает актуальности, осуществленности, которую дает форма. Задача – исследовать именно этот актуализирующий принцип.
W.D. Ross (У.Д. Росс) в своем комментарии отмечает, что этот пассаж четко разделяет два уровня бытия: потенциальный (материя) и актуальный (форма). Вся глава будет посвящена демонстрации примата актуального над потенциальным.
Критическое описание: Аристотель формулирует основную проблему главы. Признав материю необходимой основой, он сразу показывает ее недостаточность. Истинная сущность вещи, ее «чтойность», лежит не в материале, а в чем-то ином, что делает этот материал именно этой вещью.
2: Многообразие различий между вещами.Демокрит теперь допускает, кажется, три различия. Он утверждает, что тело, лежащее в основе, одно и то же по своей материи, но различается по образованию, то есть форме, по [3] повороту, то есть положению, и по контакту, то есть порядку. Очевидно, однако, что существует множество различий: вещи различаются отчасти по составу вещества, а этот состав – иногда смесь, как в медовой воде, иногда скрепление, как в свертке, иногда склеивание, как в книге, иногда скрепление гвоздями, как в коробке, иногда несколько из них одновременно; иногда они различаются по своему положению, например нижний порог и верхний порог. Иногда они различаются по своему положению, например, нижний и верхний пороги, ибо они различаются по своему положению; иногда по времени, например, обед и завтрак; иногда по месту, например, ветры; иногда по своим чувственным свойствам, например, твердость и [4 ] мягкость, плотность и тонкость. Они также различаются иногда по некоторым из этих отличительных качеств, иногда по всем, и в целом иногда в избытке, иногда в недостатке.
Комментарии и разъяснения:
Д. Босток (David Bostock) считает, что критика Демокрита служит отправной точкой. Атомизм слишком беден, чтобы объяснить все богатство качественных различий в мире. Сводя все к форме, порядку и положению атомов, он не может адекватно объяснить, например, сущностное различие между живым и неживым или между разными видами веществ (смесь vs. соединение).
А.В. Кубицкий обращает внимание на метод Аристотеля: он начинает с эмпирического перечисления всех возможных способов, которыми вещи различаются между собой. Этот каталог различий (разное вещество, структура, расположение, время, место, свойства) необходим, чтобы показать, что «бытие» не является унивокальным понятием.
С. Воджин (Stephen Voss) видит здесь подготовку к главному тезису: все эти различия – не просто случайные свойства, а модусы бытия. Разное расположение – это разный способ быть порогом. Разная плотность – это разный способ быть твердым телом.
Критическое описание: Аристотель демонстрирует, что материалистический редукционизм (в лице Демокрита) несостоятелен. Мир сложен и многообразен, и это многообразие нельзя свести к механическим параметрам атомов. За этим многообразием must stand a rich variety of formal principles.
3: Различия как модусы бытия.[5] Из этого следует, что бытие также используется в столь же многих значениях, например, подпорог – это подпорог, потому что он имеет такое положение; быть таким образом означает лежать таким образом; а быть кристаллическим означает сгущаться таким образом. [6] В некоторых вещах бытие определяется всеми этими различиями, поскольку они частично объединены, частично смешаны, частично связаны вместе, частично сгущены, а частично различаются другими различиями, например, рука или нога.
Комментарии и разъяснения:
М. Фред (Michael Frede) подчеркивает фундаментальность этого шага. Аристотель делает вывод из предыдущего перечисления: поскольку вещи отличаются множеством способов, то и «быть» (τὸ εἶναι) означает не одно и то же для всех них. «Быть» для порога – это «быть-расположенным-так-то». «Быть» для льда – это «быть-замерзшим-так-то». Бытие полисемантично, его значения задаются формальными различиями.
Ю.А. Шичалин акцентирует, что это применение учения о многозначности бытия (из Книги 4 (Γ)) к конкретной проблеме субстанции. Сущее говорится во многих смыслах, но первым среди них является сущее как субстанция. Теперь же показывается, что и внутри класса чувственных субстанций «бытие» имеет множество модусов, определяемых их формой.
Т. Ирвин (Terence Irwin) добавляет, что сложные вещи (вроде руки или дома) объединяют в себе несколько таких модусов бытия одновременно (определенное вещество, определенная структура, определенная функция).
Критическое описание: Аристотель делает решающий вывод: говорить о «бытии» вещи – значит говорить о ее форме, о том специфическом способе организации, который делает ее именно этой вещью. Бытие тождественно форме.
4: Принципы различий как принципы бытия.[7] Теперь необходимо понять роды различий, ибо они, следовательно, являются принципами бытия. Например, то, что отличается большим и меньшим, толстым и тонким и другими подобными свойствами, имеет в качестве своего принципа избыток и недостаток. То, что отличается фигурой или гладкостью и шероховатостью, подпадает под аспект прямоты и кривизны. У других бытие будет заключаться в смешанном бытии [8], а небытие – в противоположном. Отсюда следует, что, [9] если субстанция является причиной бытия каждой вещи, то причину бытия каждой из этих вещей следует искать в этих различиях. [10] Хотя ни одно из этих различий не является субстанцией, даже если несколько из них объединены, каждое из них имеет нечто аналогичное субстанции.
Комментарии и разъяснения:
У.Д. Росс (W.D. Ross) поясняет, что Аристотель проводит классификацию формальных принципов («роды различий»). Некоторые различия сводятся к категории количества (избыток/недостаток), другие – к категории качества (прямое/кривое), третьи – к отношению (смешение). Эти роды различий и есть те «начала» (ἀρχαί), которые объясняют, почему вещь такова, какова она есть.
А.Ф. Лосев видит здесь глубокую мысль: формальные различия, хотя и не являются самостоятельными субстанциями (ибо существуют только в материи), выполняют функцию субстанции – они являются причиной и основанием бытия для тех акцидентальных свойств, которые они порождают. Причина мягкости/твердости – это определенное состояние материи, т.е. ее форма.
Р. Хэйнеман (Robert Heinaman) обращает внимание на осторожность Аристотеля: он не отождествляет эти различия с субстанцией. Субстанция – это всегда конкретная вещь (синтез формы и материи). Но форма является принципом субстанции и, следовательно, принципом ее бытия.
Критическое описание: Аристотель возводит формальные различия в ранг онтологических принципов. Они – не просто свойства, а то, что структурирует материю и сообщает ей определенное бытие. Таким образом, исследование бытия вещи есть исследование ее формальных отличительных черт.
5: Определение через материю и через форму.[11] И как в случае с отдельными субстанциями то, что выражается материей, является действительным бытием, так и в случае с другими определениями. Если, например, мы хотим определить подоконник, мы скажем [12] кусок дерева или камня, лежащий таким-то образом; мы определим дом как количество кирпичей и брусьев, лежащих таким-то образом. Некоторые вещи также определяются с помощью понятия цели. Если мы хотим определить кристаллизацию, мы скажем, что вода затвердела или уплотнилась [13] именно таким образом. Музыкальная гармония – это определенная смесь высоких и низких тонов. Остальное определяется аналогичным образом. Отсюда следует, что реальное бытие и [14] понятие различаются в разных материях; в одной это состав, в другой – смесь, в третьей – нечто отличное от вышеперечисленного. Так, те, кто определяет дом в соответствии с тем, чем он является [15] : камнями, кирпичами, деревом, – указывают, чем дом является потенциально, ибо все вышеперечисленное – материя; те же, кто определяет его как вместилище для покрытия людей и товаров, с добавлением, возможно, других подобных определений, указывают, чем он является на самом деле; те же, наконец, кто объединяет эти два определения, указывают на третью субстанцию, которая является продуктом двух. [16] Определение посредством различий есть, собственно, определение формы и действительного бытия; определение посредством указания составных частей есть скорее определение материи.
Комментарии и разъяснения:
Г. Пэтциг (Günther Patzig) считает этот пассаж центральным для понимания аристотелевского учения о definition. Определение должно захватывать не только материю (род), но и видовое отличие (форму). Определение, указывающее только на материал («дом есть камни и дерево»), есть определение потенциального бытия, это лишь перечисление частей. Истинное определение указывает на форму, то есть на организацию этого материала («дом есть укрытие»).
Д. В. Бугай акцентирует телеологический аспект: часто форма раскрывается через цель (τέλος). Определение дома как «укрытия» – это указание на его функцию, то есть на его конечную причину, которая является частью его формы.
Д. Босток (David Bostock) подчеркивает, что полное определение должно включать и материю, и форму, так как чувственная субстанция есть синтез обоих. Однако примат принадлежит формальной составляющей, так как именно она сообщает определение и сущность.
Критическое описание: Аристотель применяет свою онтологию к теории определения. Логическая структура определения отражает онтологическую структуру вещи. Плохое определение останавливается на материи, хорошее определение достигает формы, а совершенное определение синтезирует оба аспекта, показывая, как форма актуализирует материю.
6: Примеры правильных определений, объединяющих материю и форму.[17] Определения, которые Архит признал правильными, сходного рода, ибо они одновременно указывают и на материю, и на форму. Например, что такое спокойствие? Спокойствие в воздушной массе; материя здесь – воздух, действительное бытие и субстанция – спокойствие. Что такое неподвижность моря? Гладкость моря; материальный субстрат здесь – море, действительное бытие и форма – гладкость.
Комментарии и разъяснения:
А.В. Кубицкий видит в ссылке на пифагорейца Архита исторический пример, подтверждающий правильность собственной теории Аристотеля. Это показывает, что его подход не голословен, а имеет прецеденты в философской традиции.
W.D. Ross (У.Д. Росс) анализирует структуру этих определений: в них явным образом назван материальный носитель («воздух», «море») и формальное свойство («спокойствие», «гладкость»). Это идеальная модель для определения сложных физических состояний и artifacts.
С. Воджин (Stephen Voss) обращает внимание на терминологию: Аристотель прямо отождествляет «действительное бытие» (ἐνέργεια) и «форму» (εἶδος) в этих примерах. Спокойствие – это не просто свойство воздуха, а актуализация его потенции к движению, то есть его форма в данном состоянии.
Критическое описание: На конкретных примерах Аристотель демонстрирует, как должно выглядеть правильное определение, соответствующее его онтологии. Оно всегда бинарно: [Материя] + [Форма].
7: Итоговый вывод о структуре чувственной субстанции.[18] Из сказанного следует, чем и как является чувственная индивидуальная субстанция; она есть отчасти материя, отчасти форма или актуальность, и в-третьих, продукт этих двух.
Комментарии и разъяснения:
А.Ф. Лосев рассматривает этот итог как триадическую формулу, завершающую весь предшествующий анализ. Чувственная субстанция:
Материя (ὕλη): потенциальное начало, субстрат.
Форма (εἶδος) / Актуальность (ἐνέργεια): действительное начало, сущность, принцип бытия.
Синтез (ἐκ τούτων): конкретная, эмпирическая вещь, возникшая в результате соединения первых двух.
Т. Ирвин (Terence Irwin) подчеркивает, что «продукт этих двух» – это не нечто третье, отдельное от материи и формы, а именно их соединение. Первичной сущностью является именно этот синтез, но в онтологическом порядке приоритет принадлежит форме как организующему принципу.
Д. В. Бугай заключает, что этим выводом Аристотель окончательно преодолевает альтернативу «материя или форма». Ответ – и то, и другое, но в разных аспектах. Материя отвечает на вопрос «из чего?», форма – на вопросы «что это есть?» и «ради чего?», а синтез (или результат синтеза) – это ответ на вопрос «что именно?» (вот этот конкретный дом).
Критическое описание: Аристотель дает исчерпывающий и лаконичный ответ на вопрос, поставленный в начале главы. Структура чувственной субстанции полностью раскрыта. Этот вывод служит фундаментом для последующего перехода к чисто динамическому рассмотрению отношения между материей (как возможностью) и формой (как действительностью) в следующих главах.
Синтез всех комментариев по итогам главыГлава 2 представляет собой систематическое развертывание тезиса о примате формы над материей. Аристотель движется от констатации многообразия сущего к выводу о многозначности бытия, а от него – к утверждению, что принципами этого многообразия и, следовательно, принципами бытия являются формальные различия.
Ключевые достижения главы:
Критика редукционизма: Ограниченность материалистических (Демокрит) и чисто платонических подходов преодолевается через признание множественности модусов бытия.
Тождество бытия и формы: Устанавливается, что «быть» для вещи – значит иметь определенную форму. Форма есть актуальность и действительность вещи, ее ἐνέργεια.
Онтология определения: Логическая структура определения прямо выводится из онтологической структуры определяемой вещи. Истинное определение должно указывать на форму, актуализирующую материю.
Триадическая модель: Дается итоговая формула чувственной субстанции как синтеза материи (потенция), формы (актуальность) и их соединения (конкретная вещь).
Таким образом, глава выполняет свою главную задачу: она переводит фокус исследования с материи как пассивного субстрата на форму как активный, организующий и сущностный принцип, который является причиной бытия каждой вещи.
Глава 3. Сущность, форма и проблема определения.
1. Проблема двусмысленности: что обозначает имя?[1] Не следует оставлять без внимания, что иногда возникает сомнение, обозначает ли слово составную индивидуальную субстанцию или только актуальность и форму, обозначает ли, например, дом составную часть, а именно вместилище, образованное из кирпичей и камней, имеющих определенное положение, или только актуальность и форму, а именно вместилище.
Комментарий (Лосев, Росс): Аристотель вводит ключевую дистинкцию для всей последующей метафизики. Речь идет о двусмысленности языка и мысли. Слово «дом» (οἰκία) может указывать на:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.











