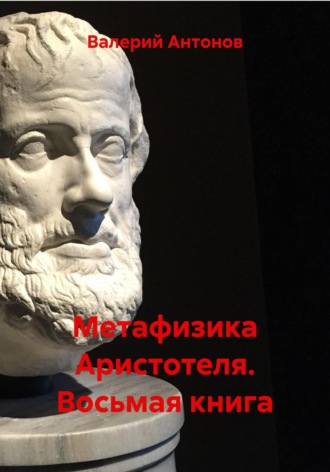
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Восьмая книга
Здоровое тело потенциально здорово в смысле поддержания и укрепления своего здоровья. Его потенция направлена на себя.
Порча (φθορά, phthora): Это не реализация потенции, а, наоборот, утрата формы. Это процесс, при котором внешние воздействия (например, болезнетворные миазмы, кислород) заставляют вещь утратить свою сущность и принять противоположную форму.
Больное тело – это здоровое тело, лишившееся своей формы здоровья. Оно не "потенциально здорово", оно лишено здоровья. Его потенция к здоровью существует, но как утраченная возможность, для реализации которой теперь требуется внешнее вмешательство (врач), чтобы изгнать противоположную форму (болезнь).
Ответ на проблемы:
Здоровье и болезнь: Здоровое тело не является "потенциально больным". Оно является способным принять болезнь под внешним воздействием, но это не его естественная потенция. Его естественная потенция – быть здоровым. Болезнь – это лишение (στέρησις, steresis) здоровья, а не его цель.
Вино и уксус: Вино не является "потенциальным уксусом". Его сущность (форма вина) стремится к сохранению себя. Превращение в уксус – это процесс порчи вина под воздействием внешнего агента – уксуснокислых бактерий и кислорода. Уксус – это новая форма (форма уксуса), которую принимает виноградный сок (первичная материя) после того, как форма вина была утрачена.
4. Роль первичной материи
Это приводит к последнему пункту вашего содержания. Аристотель объясняет радикальное изменение (смену одной субстанции на другую) через концепцию первичной материи (πρώτη ὕλη, prote hyle).
Первичная материя – это абсолютно бесформенный, лишенный任何 свойств субстрат, который никогда не существует сам по себе, а только под какой-либо формой. Это философская абстракция, необходимая для объяснения изменения.
Процесс порчи с превращением в противоположность (вино -> уксус) происходит в два этапа:
Распад (утрата формы): Форма вина разрушается под внешним воздействием. То, что остается, – это уже не вино, но еще и не уксус. Это набор качеств (сок, сахар, спирт), лишенный определяющей сущности. Это состояние максимально близко к понятию первичной материи для данного конкретного изменения.
Принятие новой формы: Этот бесформенный субстрат принимает новую форму – форму уксуса. Это уже не порча вина, а возникновение новой сущности (уксуса) из подходящей материи.
Таким образом, вино не превращается прямо в уксус. Сначала оно перестает быть вином, распадаясь до материального субстрата, и лишь затем этот субстрат становится уксусом.
Итог главы:
Глава утверждает телеологический (целевой) взгляд на природу. Сущность каждой вещи определена ее формой, которая является ее целью и совершенством. Потенция – это не абстрактная возможность, а внутреннее стремление к реализации этой цели. Изменение в противоположное состояние – это всегда насильственный, внешний процесс порчи, нарушающий естественный порядок вещей, а не реализация их истинной потенции. Это различие фундаментально для аристотелевской физики, биологии и этики.
Глава 6: Причина единства сложной сущности
Эта глава – философская кульминация, где Аристотель применяет разработанный аппарат (материя/форма, потенция/акт) для решения, пожалуй, самого сложного вопроса своей онтологии: что удерживает сложную сущность от распада на составляющие?
1. Суть проблемы: Почему "живое сущещее" – это не просто "душа + тело"?
Проблема возникает из платоновского наследия. Платон часто описывал вещь как сумму составляющих (например, идея + участие). Но Аристотель показывает, что такой подход ведет в тупик:
Если мы говорим, что человек – это «душа (форма) + тело (материя)», то что делает это сочетание единым? Почему это не просто два предмета, существующих рядом друг с другом, как, например, «лодка и река»?
Если мы попытаемся найти «третье», что их связывает (например, некую скрепу или клей), то мы попадаем в дурную бесконечность (regressus ad infinitum): что связывает эту скрепу с душой и телом? Требуется еще одна скрепа, и так до бесконечности. Объяснение никогда не будет найдено.
Эта же проблема относится к определению (логосу). Определение человека – «разумное живое существо». Что делает это определение единым, а не просто набором слов («разумное» + «живое» + «существо»)?
Таким образом, вопрос «что связывает материю и форму?» является ложным и ведет к философскому тупику.
2. Окончательное решение: Отношение потенции и акта как основа единства
Аристотель предлагает гениальный ход: нужно не искать третье, а перестать видеть в материи и форме два независимых элемента.
а) Для сложных (составных) сущностей:
Материя и форма – это не два отдельных "что", а два взаимосвязанных аспекта одного и того же "что". Они соотносятся не как части, а как потенция и акт.
Материя – это не просто "stuff" (вещество), а всегда потенция к определенной форме. Медь – это потенциально шар, статуя, проволока. Кость и плоть – это потенциально живое тело, организованное душой.
Форма – это акт, осуществленность, реализация именно этой материи. Форма статуи – это то, что делает медь актуально статуей, а не просто куском металла.
Вывод: Вопрос «что делает человека единым?» неправомерен. Единство не является результатом некоего процесса склеивания. Оно исходно дано в самом отношении материи и формы. Материя по своему определению есть потенция для этой формы, а форма по своему определению есть акт этой материи. Они взаимообусловлены и немыслимы друг без друга. Мы узнаем медь только через формы, которые она принимает, а форму статуи мы видим только воплощенной в меди.
Аналогия: Спросить "что делает больное тело потенциально здоровым?" – все еще осмысленно (ответ: врачебное искусство). Но спросить "что делает медь потенциально статуей?" – уже бессмысленно. Быть потенцией к форме – это и есть природа данной материи. Это ее исходное свойство, не требующее дальнейшего объяснения.
б) Роль движущей причины:
Хотя единство самой сущности не требует "третьего", процесс перехода от потенции к акту (становление) требует причины. Этой причиной является движущая причина (например, скульптор, который актуализирует потенцию меди стать статуей).
В конечном счете, весь мировой процесс актуализации потенций требует наличия Перводвигателя – чистой актуальности, которая, будучи целью, вызывает всякое движение и становление, сама оставаясь неподвижной.
в) Для простых (безматериальных) сущностей:
Такие сущности (например, божественный Ум-Перводвигатель, или, по мнению некоторых интерпретаторов, нематериальные умы) просто есть единое. Они не составлены из материи и формы, а потому в них нечего "склеивать". Их сущность тождественна их существованию. Они – чистый акт (energeia). Для них вопрос о единстве просто не возникает, так как они по своей природе просты и неделимы.
Итог главы:
Аристотель совершает переход от статического понимания структуры вещи (как суммы элементов) к динамическому и функциональному. Единство вещи – это не данность, а результат непрерывной активности ее формы по удержанию и организации материи. Быть человеком – значит постоянно осуществлять жизнь разумного живого существа. В этом акте осуществления (энергии) и заключается его единство и его сущность.
3. Систематическое значение книги VIII «Метафизики»
Книга VIII (Η) – это не просто рассуждение, это демонстрация работы целостной системы.
Решение проблемы единства: Как вы отметили, это центральная задача. Аристотель показывает, что форма – это принцип единства. Она не "сидит" в материи, а организует ее в целое, делая совокупность частей единой сущностью («энтелехия» тела).
Фундамент для физики: Вся натурфилософия Аристотеля строится на этом. Живой организм – это не механизм из костей и мяса, а единое целое, где душа (форма) есть принцип организации и жизнедеятельности этого тела (материи). Физика изучает сущности, которые имеют в себе начало движения и покоя, а это начало – их форма.
Фундамент для теологии: Учение о материи и форме создает иерархию сущего: от чистой материи (первичная материя) до чистой формы (Перводвигатель). Это позволяет Аристотелю помыслить высшее начало бытия как полностью актуальное, лишенное всякой потенциальности, а значит – вечное, неизменное и совершенное.
VIII книга (Н) «Метафизики» и другие произведения Аристотеля.
Книга Η – это не изолированный трактат, а кульминация и синтез ключевых идей, которые находят применение и развитие во всей системе Аристотеля.
1. Связи внутри «Метафизики»
а) Прямое продолжение Книги VII (Z):
Книга Η является непосредственным и логическим продолжением основной книги о сущности.
Z.17 ставит главный вопрос: почему нечто есть вот это вот? (Напр., почему вот эти кирпичи и брёвна – дом?) Ответ: из-за наличия причины – формы или сущности.
Книга Η разворачивает этот ответ через пары материя/форма и потенция/акт. Она показывает механизм, с помощью которого форма организует материю. Если Z больше фокусируется на форме и её приоритете, то Η углубляется в анализ материи и отношения между двумя принципами.
Проблема единства, центральная для Η.6, является прямым ответом на апории, сформулированные в Z.12 (о единстве определения) и Z.13 (является ли сущность универсалией).
б) Подготовка к Книге IX (Θ):
Книга Η заканчивается утверждением, что следует исследовать природу потенции и акта. Книга IX (Θ) – это прямое выполнение этого обещания.
Анализ потенции и акта в Η (особенно в контексте единства) является фундаментом для более широкого и глубокого исследования в Θ. Η показывает онтологическую необходимость этих понятий для объяснения бытия и единства, а Θ даёт их полную систематизацию.
в) Связь с теологией Книг XII (Λ) и VI (E):
Учение о материи и форме создаёт иерархию сущего. Чувственные сущности – составные, а значит, содержат в себе потенциальность и возможность изменения.
Это логически подводит к необходимости существования нематериальной, вечной и неизменной сущности – Перводвигателя в Книге XII (Λ). Перводвигатель есть чистый акт (ἐνέργεια), лишённый всякой материи и потенциальности. Без анализа, проведённого в Η, это понятие было бы немыслимо.
Книга VI (E) делит философию на первую (теология, изучающая неподвижное сущее) и вторую (физика, изучающая подвижное сущее). Книга Η обеспечивает онтологический базис для этого разделения, чётко описывая природу подвижного, чувственного сущего, которое является предметом физики.
2. Связи с другими произведениями (вне «Метафизики»)
а) «Физика» (Physica):
Это, пожалуй, самая тесная и важная связь. «Метафизика» даёт онтологическое обоснование тому, что «Физика» исследует как процесс.
Phys. I: Анализ природных вещей через принципы формы, лишенности и материи напрямую перекликается с учением Η. «Лишённость» (στέρησις) – это ключ к пониманию изменения, которое в Η объясняется как переход от потенции к акту.
Phys. II: Учение о четырёх причинах (материальной, формальной, действующей и целевой) получает в Η своё глубинное обоснование. Показывается, что формальная, целевая и часто действующая причина совпадают в одной сущности (форма есть и то, что вещь есть, и ради чего она существует). Η объясняет, почему это так.
Предмет физики: Физика изучает сущности, «имеющие в себе начале движения и покоя». Книга Η объясняет, что это начало – их форма (душа для живых существ).
б) «О душе» (De Anima):
Этот трактат – прямое приложение метафизической схемы Η к ключевому классу сущностей – одушевлённым существам.
Определение души: Душа есть «первая энтелехия (осуществленность) природного тела, обладающего органами» (De An. II.1). Это классическая формула, где:
Душа – это форма (εἶδος).
Тело – это материя (ὕλη).
Энтелехия – это акт (ἐνέργεια), осуществляющий потенцию тела быть живым.
Таким образом, живое существо есть paradigmatic case того единства материи и формы, которое было доказано в Η.6.
в) «Никомахова этика»:
Учение о потенции и акте переносится в этическую сферу. Добродетель – это не потенция, а склад души (ἕξις), приобретённый через упражнение (активность, акт).
Цель человеческой жизни – эвдемония (блаженство) определяется как деятельность (ἐνέργεια) души сообразно добродетели (EN I.7). Высшая форма этой деятельности – созерцательная жизнь (βίος θεωρητικός), которая есть наиболее полная актуализация человеческой природы, приближающаяся к чистой актуальности Перводвигателя.
г) Произведения по логике («Категории», «Об истолковании»):
«Категории» дают начальную, ещё статичную классификацию сущего, где первая сущность – это конкретный индивид (например, этот человек).
Книги Z и Η «Метафизики» дают глубинное объяснение, почему и как этот индивид является единой и основной сущностью. Они раскрывают внутреннюю структуру той самой первой сущности из «Категорий», показывая, что её единство обеспечивается формой.
Заключение
Таким образом, Книга VIII (Η) действительно является теоретическим узлом. Она:
Подводит итог онтологическим изысканиям Книги VII.
Создаёт концептуальный мост к учению о потенции и акте (Кн. IX) и теологии (Кн. XII).
Служит онтологическим фундаментом для натурфилософии («Физика»), психологии («О душе») и даже этики.
Даёт инструмент – отношение потенции и акта – для объяснения единства, изменения и цели любого сущего.
Без понимания Η система Аристотеля распадается на несвязанные части. Η – это место, где метафизика становится практической философией природы и человека.
Последовательность глав: движение мысли Аристотеля: от постановки проблемы через анализ составляющих к её разрешению и выводу.
1. Глава 1 (Η.1): Связь с Книгой VII и постановка проблемы.
Содержание: Вы абсолютно правы, это – мост и рекапитуляция. Аристотель не просто подводит итоги, он фокусирует проблематику Книги Z на одном, самом сложном вопросе: проблеме единства составной сущности (σύνολον).
Ключевая фраза: «Но о восприемлющем [т.е. о материи] и о сути бытия [т.е. о форме] следует сказать, в чем трудность: по какой причине нечто составляет одно?» (1045a20-23).
Углубление: Он напоминает, что материя – это не сущность в смысле формы, а лишь «то, из чего» (ἐξ οὗ). Проблема в том, что если сущность – это форма, а вещь состоит ещё и из материи, то как эта вещь едина? Этот вопрос и будет руководящим для всей книги.
2. Главы 2-3 (Η.2-3): Анализ материи и её свойств.
Содержание: Здесь Аристотель проясняет природу того, что должно быть объединено – материи. Важно его различение:
Предельная (первая) материя: чистая потенциальность, лишённая какой бы то ни было формы.
Определённая материя (лат. materia secunda): уже обладающая некоторой формой (например, не «материя вообще», а «медь», «дерево»). Именно она является непосредственным субстратом для новой формы.
Ключевой вывод этих глав: Материя сама по себе (καθ' αὑτήν) непознаваема и неопределённа. Она есть «то, что именно в возможности» (τὸ δυνάμει ὄν). Познаём мы её всегда уже как «материю чего-то», то есть через привходящую форму. Это подготавливает решение: если материя по своей природе есть потенция к форме, то их единство изначально.
3. Главы 4-5 (Η.4-5): Анализ формы как причины единства и сущности. (Кульминация)
Содержание: Это ядро книги. Аристотель применяет аппарат потенции и акта для решения проблемы единства.
Ключевой тезис: Вопрос «что делает вещь единой?» некорректен применительно к связи материи и формы. Это не два независимых элемента, которые нужно склеить. Это два аспекта одной вещи: материя – это потенция (δύναμις), форма – это акт (ἐνέργεια) или энтелехия (ἐντελέχεια) этой материи. Их единство не является результатом некоего процесса, а есть исходный, фундаментальный факт.
Знаменитая аналогия: Объяснять единство материи и формы – всё равно что спрашивать, что делает человека «единым», а не «многим» (животное + двуногое). Ответ: потому что одно из них – материя, а другое – форма; одно дано в возможности, другое – в действительности.
Критика Платона: Аристотель язвительно замечает, что говорить об «участии» (μέθεξις) – это пустые слова и поэтические метафоры.
4. Глава 6 (Η.6): Заключение и переход к Книге IX (Θ).
Содержание: Аристотель закрепляет решение: причина того, что нечто есть одно, заключается в том, что суть бытия (форма) некоторой материи и эта материя суть одно и то же (1045b18). Форма – это не внешняя структура, а актуализирующий принцип, делающий материю определённым чем-то.
Методологический поворот: Поскольку проблема единства решена через отношение потенции и акта, становится ясно, что исследование сущего вообще требует тщательного анализа этих понятий. Поэтому следующим шагом должно быть изучение δύναμις и ἐνέργεια как таковых.
Связь: Эта глава – не просто вывод, а философский прорыв. Аристотель осознаёт, что открыл универсальный инструмент для объяснения не только структуры, но и изменения, движения и бытия. Это прямой программный анонс Книги IX (Θ), которая является систематическим исследованием потенции и акта во всех их видах (рациональные и нерациональные способности, движение как неполный акт и т.д.).
Книга Η – это не набор разрозненных глав, а единый, строго аргументированный трактат, который движется от констатации апории к её блестящему разрешению, открывающему дорогу для следующего фундаментального шага во всей метафизической системе Аристотеля.
Глава 1. Итоги исследования субстанции: виды, принципы и матери.
Глава 1 служит мостом, подводящим итоги предыдущих изысканий и задающим направление для последующих.
1: Задача и итоги предшествующего исследования.[1] Из сказанного следует сделать выводы и, подведя главный итог, завершить исследование. Как мы уже говорили, мы будем искать причины, [2] принципы и элементы субстанций.
Комментарии и разъяснения:
А.Ф. Лосев подчеркивает, что это классический для Аристотеля метод «сведения итогов» (συναγωγή). Это не просто повторение, а синтезирующий обзор, позволяющий перейти от анализа к синтезу, от многообразия мнений к собственной системе. Фраза «завершить исследование» указывает на то, что Книга 7 (Z) была подготовительной и апорематической (полной затруднений), а теперь настало время для позитивных выводов.
Ю.А. Шичалин обращает внимание на три ключевых термина: причины (αἰτίαι), принципы/начала (ἀρχαί) и элементы (στοιχεῖα). Это не синонимы. «Принципы» – более широкое понятие, отправные точки рассуждения и бытия. «Причины» – то, что объясняет существование и свойства вещи. «Элементы» – составные части, входящие в состав вещи. Задача – найти именно эти первоосновы чувственных субстанций.
Критическое описание: Аристотель четко позиционирует данную главу как итоговую и синтезирующую. Он напоминает об основной цели всего своего метафизического проекта, сформулированной еще в первой книге: исследование первых причин и начал.
2: Разновидности субстанций: общепринятые и спорные.[3] Среди субстанций, однако, некоторые признаются единодушно всеми философами, другие – только некоторыми. Общепризнанными являются физические, например, огонь, [4] земля, вода, воздух и другие простые тела, затем растения и их части, животные и их части, наконец, небо и части неба; только некоторые философы, однако, считают субстанциями идеи и математику. [5] Из наших исследований вытекают и другие субстанции, а именно сущность и субстрат. Другим способом было установлено, что род более субстанционален [6], чем вид, а общее более субстанционально, чем частное. [7] Но идеи также связаны с общим и с родом, ибо по той же причине они кажутся субстанциями.
Комментарии и разъяснения:
Д. Босток (David Bostock) в своей работе «Aristotle's Metaphysics Books Z and H» отмечает, что Аристотель начинает с «феноменологического» подхода: он перечисляет то, что обычно называют субстанцией (οὐσία). Это отправная точка, основанная на общем мнении (энδοξон). Однако его собственная теория, развитая в Книге 7, радикально расходится с этим мнением.
А.В. Кубицкий и Д. В. Бугай акцентируют, что противопоставление «общепризнанных» (физические, чувственные субстанции) и «спорных» (идеи, математические объекты) субстанций служит двум целям: 1) показать предмет дальнейшего анализа (чувственные субстанции); 2) отсечь конкурентные теории (Платона), которые будут критиковаться отдельно.
Т. Ирвин (Terence Irwin) в «Aristotle's First Principles» объясняет, что упоминание о том, что род и общее кажутся более субстанциональными, чем вид и частное, – это отсылка к аргументам платоников. Платон именно по этой причине постулировал мир идей. Аристотель же в Книге 7 (Z) доказал обратное: сущностью является именно конкретный вид (εἶδος), а не род или общее понятие.
Критическое описание: Аристотель проводит инвентаризацию кандидатов на статус субстанции. Важно, что он включает в этот список не только очевидные физические объекты, но и результаты собственного анализа из Книги 7: сущность (τὸ τί ἦν εἶναι) и субстрат (τὸ ὑποκείμενον). Он напоминает, что, хотя платоники и выводят свои идеи из логической структуры рода и вида, его собственное исследование уже показало ошибочность этого пути.
3: Результаты анализа сущности и определения.[8] Итак, поскольку сущность в частности раскрывается как субстанция, а определение – как понятие сущности, выше были даны более подробные рассуждения об определении и о том, что есть само по себе. И поскольку, кроме того, определение есть понятие, а понятие имеет части, необходимо было также проанализировать, что является частью субстанции, а значит, и определения, а что нет. Кроме того, было показано, что ни общее, ни род не являются субстанцией.
Комментарии и разъяснения:
М. Фред (Michael Frede) и Г. Пэтциг (Günther Patzig) в своем комментарии к Книге Z обращают внимание на тесную связь между онтологией и логикой у Аристотеля. Структура бытия (сущность) соответствует структуре знания (определение). Поэтому анализ определения – это прямой путь к пониманию субстанции.
А.Ф. Лосев развивает эту мысль: части определения – это части сущности. Материальные части (например, «кирпичи» дома) не входят в сущность и определение, в отличие от формальных, сущностных частей (например, «покрытие» для дома). Это различие критически важно для отделения формы от материи.
В.П. Лега подчеркивает итоговый характер этого абзаца: здесь Аристотель в сжатом виде резюмирует главный отрицательный результат Книги 7: опровержение статуса субстанции за общим и родом. Это окончательный разрыв с платонизмом.
Критическое описание: Данный абзац – это квинтэссенция выводов Книги 7. Аристотель утверждает, что установил тождество сущности, формы (ἐίδος) и сути бытия (τὸ τί ἦν εἶναι), которая выражается в определении. Все, что не является частью этого определения (материя, общее, род), – не есть субстанция в первичном смысле.
4: Предмет дальнейшего изучения[9] Но идеи и математическое должны быть исследованы позже, поскольку некоторые философы утверждают, что они существуют наряду с чувственно воспринимаемыми субстанциями.
Комментарии и разъяснения:
Д. В. Бугай видит здесь не просто отсылку к будущему, а методологический прием. Аристотель «заключает в скобки» платоническую онтологию, чтобы сосредоточиться на имманентной структуре чувственного мира. Только поняв, как устроены чувственные субстанции, можно адекватно критиковать теорию идей.
W.D. Ross (У.Д. Росс) в своем классическом комментарии «Aristotle's Metaphysics» отмечает, что это обещание частично выполняется в Книгах 13 (M) и 14 (N), которые целиком посвящены критике учения об идеях и математических объектах.
Критическое описание: Аристотель четко очерчивает границы текущего исследования. Его immediate task – анализ чувственных субстанций. Спекулятивные объекты платоников временно исключаются из рассмотрения как нерелевантные для решения основной задачи главы.
5: Чувственно воспринимаемые субстанции и их субстрат[10] Теперь обратимся к общепринятым субстанциям: это чувственно воспринимаемые субстанции: но все чувственно воспринимаемые субстанции имеют материю. Субстанция – это, во-первых, [11] субстрат: но субстрат – это, в одном смысле, материя (я называю материей то, что не фактически, а лишь потенциально является этим), в другом – понятие и форма, короче говоря, то, что является этим и отделимо в соответствии с понятием. Третье – то, что состоит из этих двух, [12] которое одно имеет возникновение и исчезновение и абсолютно делимо: ибо из понятийных субстанций только одна делима, [13] другая – нет.
Комментарии и разъяснения:
Э. Хэлпер (Edward Halper) объясняет, что здесь Аристотель возвращается к трехчастному делению субстанции из Книги 7 (Глава 3): 1) материя; 2) форма; 3) синтез обоих. Однако теперь это деление дается не как проблема, а как часть решения. Ключевое нововведение – четкое определение материи как потенциальности (δυνάμει).











