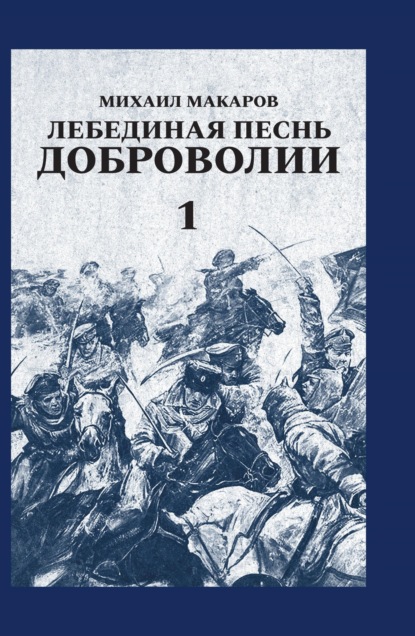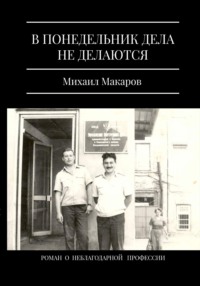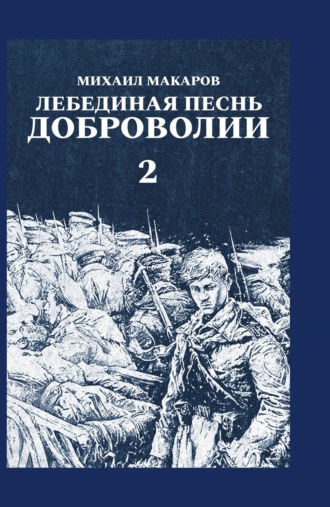
Полная версия
Лебединая песнь Доброволии. Том 2
А ведь как он жаждал расспросить про впервые увиденную татуировку на левом плече командира. На ней кинжал осью симметрии делил лицо человека и волчий острозубый оскал, образуя хищную маску, под которой синела подпись: «Человек человеку – волк!».
Пообвыкнув, осмелев чуток, Маштаков присел на корточки, воды стало ему «по шейку». Шаловливо тряхнул плечами, плеснул через край волной. Но баловать некогда, вернулся в вертикальное положение, обмылком вооружился и мочалкой. Круговыми движениями намыливаться начал. Молчком трудился, усердно. Обливался водой из своего же чана, ковшиком зачерпывал. Процедуру омовения повторил дважды.
Какое блаженство – если не грехи, то хотя бы, верхний самый гадостный пласт грязи смыть со шкуры…
– Этюд «Грешник в адском котле»! – напросилась ассоциация.
– Тогда я – кто? Чёрт?! Кочегарю?! – в игру включился Арсений. – Подкинуть дровишек, Михал Николаич?
– Побереги для себя и Васи-и-илия, – истома овладевала штабс-капитаном.
Но побороть себя лени он не позволил. У оконца с треснутым по диагонали стеклом, зябко ёжась от сквозняка, наскоро побрился, подровнял усы и впрок до мяса ножницами, где-то сворованными плутом Бондаренко, обкорнал ногти на руках. Целых две причины было вернуть себе человеческий облик – завтрашний строевой смотр, на который ожидался главком, и предстоящая встреча с Леной Михеевой. Наконец-то выпал шанс её проведать.
Лазарет корниловцев стоял в селе Самарском, от станции в полуверсте, дорога вела туда торная. Маштаков шагал размашисто, скапливал минутки для дорогого свидания. Вернуться в роту он должен был к полуночи.
Мороз, судя по нервическому взвизгу снега под подошвами сапог, треску дыхания, мутным паром рвавшегося сквозь башлык и в один миг обледеневшим ресницам, продолжал лютовать. Стужи штабс-капитан не замечал, не столько давешняя баня и энергичная ходьба путника подогревали, сколько трепет волнения.
То была не первая его вылазка в Самарское. Разумеется, у моря погоды он не ждал и сгонял в лазарет на второй день отвода ударников в тыл, ещё в штате офицерской роты находясь.
Встреча тогда получилась скомканной. Сестра милосердия Михеева работала, меняла раненым повязки, отпустили её ровно на пять минут. Не то чтобы уединиться, отойти в сторону не вышло. Из приотворённой двери перевязочной доносились сдавленные стоны, по узкому сумрачному коридору ковыляли ходячие раненые, сновал измученный медперсонал, у каждого своя печаль, своя главная забота.
Три месяца не виделись, а старше стала Лена на три года. Минимум! Тиф, он время вскачь гонит. Приятная округлость форм, что прежде так красила девицу, пропала. Фигура сделалась угловатой. В кулачок сжалось лицо, глазищи половину его занимали, вылитая марсианка с иллюстрации к фантастическому роману Уэллса. Глаза, до болезни ярко-изумрудные, потускнели до унылого цвета хаки. Косынка была повязана очень туго, отсутствие непокорной золотистой прядки, постоянно из-под неё выбивающейся, подсказывало – рыжая грива безжалостно острижена если не под машинку, то очень коротко.
Ахнула сестра Михеева, завидев нежданного гостя, руками всплеснула. Кое-как укротила растерянность, потеплела взглядом. На запавшей щеке проткнулась памятная милая ямочка. Без слов понятно стало, как рада Лена штабс-капитану, рада, что бедокур до сих пор жив и здоров.
Оба смутились. Требовался разговор по душам, который обстановка категорически исключала. Чтобы не молчать, обменялись общими фразами на тему чудесного спасения девушки.
Скромница приписала успех своей отважной товарке Варе Васильевой, если бы не та, никакой побег из Совдепии не удался бы. И вздохнула горько – Варенька снова оказалась под красными.
Маштаков ни разу не видел Васильеву, соответственно его, обладателя сугубо прикладного мышления, новость не взволновала.
– Жаль, жаль. Но снаряд дважды в одну воронку не падает. Обойдётся! – выразить сочувствие требовали элементарные правила приличия.
Они пообещали друг другу во что бы то ни стало увидеться в самые ближайшие дни. Всенепременно tete-а-tete[37].
На прощальном поцелуе офицер не настаивал. Дело не в стеснении вовсе, компрометировать честную девицу не хотелось ему при посторонних. Но узкую трепетную ладонь, шершавую от регулярной стирки бинтов, пятернёй накрыл и бережно огладил.
Тем же памятным вечером Маштакова скоропостижно перекрестили в пулемётчики. После знакомства с капитаном Горчаковым он понял, что об отлучках из расположения роты в обозримом будущем ему следует забыть. Лавочка прикрылась!
И на перевязку-то записаться не было повода. Старая рана на шее, докучавшая много месяцев кряду, перестала вдруг кровить и гноиться. Словно бабка-ворожея нашептала. Багровый кружок рубца выцвел до бледно-розового колера, вполне безобидный вид приобрёл. Едва заметной стала рытвина от шрапнельной пули, ворот гимнастёрки ее, разумеется, беспокоил, натирая, но острая боль при резких движениях адамово яблоко более не пронзала. Попутно отпала осточертевшая надобность постоянно бинтовать шею.
Симулировать Михаил не стал из суеверия. Знал – правило «Не буди лихо, пока оно тихо» осечек не даёт.
Разрешения отлучиться испросил лишь, выдержав испытание и будучи зачисленным в кадры пулемётной роты. Горчаков в ответ продемонстрировал, что командир он строгий, но исключительно справедливый.
И вот штабс-капитан в грифельной ретуши ранних зимних сумерек топал вдоль обочины дороги, ведущей в село Самарское. В попутном направлении тащился обоз, гужевой оказией офицер не воспользовался. В скорости вряд ли выиграешь, а зазябнешь, на санях сидючи, наверняка. К тому же путь недолог и не тянет своя ноша. В холщовом «сидоре», на плечо закинутом, полкаравая хлеба, банка мясных консервов британской фирмы «Maconochie» да «косушка»[38]ректификата. Ни вина, ни коньяку, ни даже банальной водки раздобыть в этой дыре Маштаков не смог. Спиртяга, к слову, в тысячу рублей ему обошёлся! Цена баснословная, ну да не в деньгах счастье…
Самарское – центр волости, до начала войн население его превышало пять тысяч жителей обоего пола. Ближняя к станции окраина села именовалась Задонской Слободой, в ней второй Корниловский полк расквартирован.
Ориентир лазарета Михаил помнил с прошлого похода – рядом должен быть аптекарский магазин с вывеской, во всю длину коей теснились аршинные буквы: «МАЙДЕЦКИЙ СТАНИСЛАВЪ КЛИМЕНТЬЕВИЧ». Пустяшная подробность зачем-то врезалась в память.
Под лазарет ударники облюбовали здание земской школы. Маштакову везло сегодня, на нужную улицу он вышел, ни разу не заплутав. Везение на этом не закончилось, на крыльце лазарета офицер опознал знакомую личность. Там в наброшенном на плечи полушубке в одиночестве курила Жанна Баранушкина. Чёрный платок и чёрное платье старшей сестры милосердия знаменовали траур по погибшему мужу.
– Добрый вечер, – отдавая дань чужому горю, штабс-капитан поздоровался с самой душевной интонацией, на которую был способен.
Куцым вышло счастливое замужество Жанны. Она обвенчалась с поручиком Баранушкиным в Курске, на следующий день после освобождения города. Восьмого сентября, если не изменяет Маштакову его хвалёная память. Сам-то он приглашения на свадьбу к первопоходникам не удостоился по причине малого срока службы в Добрармии.
Реакция на приветствие у Жанны запоздалая. Будто она дремала стоя.
– А-а, это вы, – процедила с апатией, по-мужски жадно, взасос затягиваясь папиросой.
Раздувшийся оранжевый огонёк на миг подсветил туго обтянутые кожей костлявые скулы и заодно – ввалившиеся миндалины глаз.
«Как она исхудала», – мыслями посочувствовал пулемётчик.
Алёша Баранушкин был убит двадцать шестого декабря при отступлении за Дон. Полковник Скоблин послал его в авантюрную разведку, когда дивизия, брошенная (читай – преданная) донцами Мамантова, экстренно возвращалась в Ростов с полпути к Новочеркасску, который имела приказ отбить и до которого не дошагала. Засуетившись, заметавшись в потёмках, преследуемые конницей Думенко, корниловцы угодили в капкан. На подходе к Нахичевани конные разведчики донесли – туда ворвались будёновцы. Скоблин докладу не поверил, с площадной бранью погнал Баранушкина перепроверять себя же. Поручик беспрекословно исполнил приказание, чтобы пару минут спустя рухнуть замертво вместе с лошадью, покромсанный пулемётными очередями.
В полку гибель поручика и его людей восприняли обыденно, никто не осудил начдива, дескать – без нужды отправил на убой. Никто, в том числе молодая жена, не назвал Алёшину смерть глупой.
Завзятые вояки понимали – Скоблин спасал дивизию, в условиях жесточайшего цейтнота спасал. Не поверил докладу? Что ж, трудно поверить в невероятное. Будённый свалился в Нахичевань, как сам дьявол из преисподней. Безосновательно Скоблин обвинил Баранушкина, будто тот спьяну всё перепутал? Оскорбил?! Так в бою нет места реверансам.
Об одном кручинилась Жанна – корниловцы, прорываясь из огненного мешка, не вывезли тела её мужа. Лишили возможности предать Алёшеньку земле по-христиански.
– Простите, а Елена Михайловна, это самое, где сейчас находится? – вопросил Маштаков, сама деликатность.
Ответную реплику предварил недоумевающий взгляд. Затем – порывистая затяжка, сухой щелчок пальцев, пульнувших окурок в пирамиду ближнего сугроба.
– Михеева убыла с транспортом раненых в Екатеринодар. Третьего дня.
Жанна развернулась и ушла внутрь здания. Без «до свидания» и других слов прощания.
Маштаков, впрочем, не надулся. Ошарашенному, ему не до обид было. Вот именно такого развития событий он не ожидал. Он почему-то воспринимал Лену и лазарет единым целым.
– Надо же… надо ведь, – забормотал.
Не прекращая растерянного бубнежа, побрёл обратно. Когда отошёл на изрядное расстояние, уже слободы достигнув, спохватился – эх, уточнить следовало, правильно ли Жанна его поняла.
«Может, перепутала? В голове-то у неё, судя по очумелому виду, сумбур! Не-ет, она отчётливо произнесла: «Михеева», фамилию назвала. Они ж подруги. Как тут можно перепутать?! Да и меня она узнала… Вроде как… Но вдруг всё-таки не расслышала вопрос?»
Поедаемый сомнениями ковылял штабс-капитан, и ноги у него заплетались. Когда исподволь промерзать начал, понял, какую крупную ошибку допустил, не зайдя погреться в лазарет.
Одет был Маштаков, как дед из детской загадки про лук. В семь шуб! Шинель, меховая безрукавка, кожанка, суконная гимнастёрка, две пары нательного белья… Перечисленные предметы обмундирования стужа, однако, не принимала во внимание, прожигала, как картонки.
Осенила идея – для согрева хватить спирта.
«До лампады, что чистый! Снегом вон закушу».
Побоялся на морозе не совладать с намертво заледеневшим узлом на горле вещмешка. Мышка-мыслишка, на секунду обнадёжившая, вильнула хвостиком и растворилась без следа.
Оставалось утешаться логическим силлогизмом[39]: «Когда человек замерзает, ему тепло становится. Мне не становится, значит ни хрена я пока не замерзаю».
В сени ввалился на негнущихся (деревянные ходунки!) ногах. Запнулся о порог, рухнул ниц на пару со своими «ходулями», грохот произвёл такой, будто охапку дров с размаху рассыпали.
Досрочному возвращению обрадовался взводный Обух. Под локоть фиксируя, провёл охромевшего вояжера в боковушку, которую они на двоих делили.
Поручик Обух – большой оригинал. Всю первую неделю службы под его началом Маштакова поручик молчал, как сфинкс. Потом вдруг распорядился притащить в командирский закуток ещё одну лавку.
– Располагайся! – перстом, напоминающим семенной огурец, ткнул в ложе.
Жизнь научила Маштакова остерегаться непредсказуемых субъектов. Но на отдельной лавке спать куда комфортнее, чем на тесных полатях с фельдфебелем Гаврилюком и тремя унтерами под незатихающий аккомпанемент зверского храпа, надсадного кашля и зловонного пердежа.
– Задрыг, Николаич? – по отчеству Обух обращался к штабс-капитану, когда хотел уважить возраст.
Чаще он говорил ему: «Мишка». Обух – человек поразительной бесцеремонности. Он со всеми запанибрата и мог «тыкнуть» даже капитану Горчакову, правда, вне строя.
А ещё Обух обуреваем желанием научиться игре на гитаре. Часами тренькал он на инструменте, одолженном Маш-таковым у адъютанта Копецкого. В медвежьих лапах поручика гриф казался хворостинкой.
Насобачившись бойко извлекать из одной струны незатейливого «Чижика-пыжика», Обух решил – самое трудное позади. Рано радовался, игра аккордами ему не давалась, невзирая на упорные тренировки. Не выходило одновременно зажимать несколько аккордов, притом – нужных. Скверно гнулись толстенные пальцы. Проблемы были и с чувством ритма.
Тем не менее, взводный хорохорился, мол, скоро к Плевицкой аккомпаниатором его станут приглашать, не Маш-такова.
– Мне лишь бы ангажемент заполучить. Надьке одного взгляда хватит. Ну что Эмблема? Одни мощи. А русской бабе самец надобен. Чтоб до гланд продрал!
В этом месте поручик ржал, гордясь собственной статью племенного жеребца.
Был он действительно могуч, широк в кости. Мускулистое мясо распирало заморский френч, лопнувший подмышками на первой же, наверное, примерке. Галифе, обшитые снизу жёлтой кожей, обтягивали ляжки-окорока. Кумпол бритой головы сидел на неохватных плечах безо всякого участия шеи, загривок, впрочем, наличествовал – в тугих, не ущипнуть, поперечных складках. Сломанные уши выдавали увлечение французской борьбой. Нос был приплюснут, смачные губы плотоядно выворочены. Нижний массив физиономии зарос щетиной. Глазки – крохотные, кабаньи, мутные – упрятаны под козырьки надбровных дуг. Ручищи загребущие, клешня́тые.
Название тупой части топора, чей удар, если в лоб придётся, быка с ног валит, идеально подходило ему в качестве фамилии. Не фамилия – сценический псевдоним, нарочно придуманный!
Дождавшись, пока долговяз Сляднев, кряхтя, стащит с Маштакова скукожившиеся сапоги (заодно с портянками и наизнанку вывернутыми дырявыми носками) и вон уберётся, Обух съехидничал:
– Я говорил, Мишка, не по твоим усишкам эта цаца!
Штабс-капитан страдальчески морщился, разминая пальцами ноющие ледышки ступней. Превозмогая муку, выдавил:
– За цацу в морду схлопочешь! У-у-у…
Ценивший в людях дерзость взводный поощрил реплику подчинённого:
– Огрызаешься, волокита. Слюни не распускаешь. Молодца-а!
Действуя в своей беспардонной манере, Обух взвесил в руке «сидор» Маштакова, не похудел ли. Без разрешения распустил петлю на горловине и с победным видом факира, обученного извлекать из цилиндра кроликов, вынул на свет божий бутылку.
– У нас, между прочим, к ужину блины-с! А они сухую глотку дерут. Напомни, Николаич, ты спирт запиваешь или разбавляешь?
Толстые блины пропеклись плохо, зато вдоволь напитались топлёным маслом, глянцево лоснились. Маштаков отломил хрусткий подгорелый краешек, пихнул в рот. Жевал, игнорируя горечь и недосол. Торопился набить желудок в надежде, что горячая пища согреет его изнутри.
К блинам шла селёдка. Ею и закусывали немой первый тост.
Взводный плотоядно чавкал и замер вдруг с таким загадочным видом, что Маштаков обязан был спросить, в чём дело.
– Запоминаю эффект от спиртяги по тысяче «колокольчиков» за пузырёк. Целое состояние при нищенском нашем жаловании! Да, что говорить, коли стакан молока до двадцати рублей дошёл, а коробушка спичек – до семидесяти пяти! – в подпитии на поручика накатывало философское пустословие.
Репертуар его был постоянен.
Тактические занятия он обзывал игрой в солдатики.
– К чему попусту морозить людей? И без того половину кашель бьёт, вторая половина – сопливится. Вдобавок, нашей войнушке мудрёная тактика не нужна. Знай, ломи вперёд за единую-неделимую!
Другим объектом критики был у него капитан Горчаков.
– Корчит из себя тоннягу[40]! А на позицию его на аркане не затащить. Вот раньше в пулемётной командир был отчётливый! Матвей Сумайстроч… Тьфу! Хрен с первого раза выговоришь! Сумайсторчич! Серб! По-русски ни бельмеса!
Завсегда в первой цепи и сам за «максимкой». В октябре под Курском его угораздило. Прямым попаданием «чемодана»[41]. В молекулы разорвало! Вот с того времени чистоплюй в манишке и коноводит нами.
На офицеров военного времени Обух взирал свысока, и по всем замашкам был кадровым. Как-то упомянул: «Из училища вышел в полк в девятьсот восьмом году». Если это правда, чем объяснить его скромный чин?
К Маштакову по данному аспекту взводный претензий не выкатывал. Штабс-капитан покладисто соглашался с тем, что, имея на плечах погоны с четырьмя звёздочками, он так и остался «стрюцким»[42].
Захмелевший Обух по одному и крайне старательно вытер жирные пальцы холщовым полотенцем сомнительной свежести. Достал из нагрудного кармана френча пухлую колоду карт.
– Метнём?!
– Играем не дольше полуночи, – поставил твёрдое условие Маштаков.
– Раньше управимся. Чую, Мишка, обдеру тебя ноне, як липку.
Переселив Маштакова в свои «апартаменты», взводный без дальних разговоров предложил ему перекинуться в картишки. Ответ, будто штабс-капитан сроду не держал в руках колоды, Обух расценил, как откровенное лукавство. Принялся настаивать, обидно уличать во вранье. Маштаков отнекивался, но потом дал слабину. За гостеприимство положено расплачиваться.
– Будь по-вашему (тогда он ещё не перешёл с прямым начальством на «ты»). Научите чему-нибудь попроще.
А что может быть примитивнее «железки»? Любому новичку полчаса хватит, чтоб усвоить её нехитрые правила.
Высшая карта в «железке» – девятка. Туз ценится в одно очко. Король, дама, валет и десятка стоимости не имеют, потому называются «жиром». Банкомёт делает ставку, понтёр её покрывает целиком или уменьшает. Тогда банкомёт объявляет «замётано» и сдаёт по две карты партнёру и себе. Игроки смотрят свои карты, выигрывает набравший восемь или девять очков. Если случается «en carte», то бишь девятка или восьмёрка пришли обоим игрокам, они бросают карты, и метка продолжается.
Правила содержали ещё ряд нюансов, несложных для запоминания.
Первый вечер играли без интереса. Тренировались, позёвывая, почёсываясь. Маштаков путался, проигрывал. На следующий день решили играть по гривеннику. Сразу затеплился азарт, игра пошла, причём раз за разом банк срывал Маштаков. И не то чтобы ему слепо везло, как новичку, он играл расчётливо, запоминал отыгранные карты, трезво прикупал. Естественно, Обух с громогласным ехидством констатировал, что прав был на сто процентов, не поверив басням насчёт штабс-капитанского невежества в карточной игре.
С того самого памятного дня каждый вечер взводный грозил ободрать подчинённого «як липку». Покамест тщетно.
8
31 января – 7 февраля 1920 годаСтанция Каял – станция Батайск – станица ГниловскаяВстреча главнокомандующего с войсками на станции Каял дублировала азовский сценарий.
Также компактно на стиснутой грядою сугробов вокзальной площади выстроились батальоны. В первые шеренги тоже были отобраны ударники в шинелях поновее, преимущественно английских. Начдив Скоблин, пружинисто под-шагавший с докладом к главкому, бретерской небрежностью отточенных жестов, сам того не зная, копировал начдива Витковского.
Бодрая приветственная речь Деникина имела единственное отличие – за боевую работу генерал вместо «славных дроздовцев» благодарил «славных корниловцев».
Точно также недоумевали офицеры по поводу подвязанного глаза «Царя Антона». Аналогичным было желание людей скорее разойтись по квартирам, пятнадцатиградусный мороз с порывистым ветром в придачу превращали парад в мучение.
Ощутимого воодушевления приезд главкома не принёс: как оратор, зажечь бойцов он не умел. Да и возможно ли в принципе воспламенить уже перегоревших в золу и уго́лья?
Тем не менее, корниловский историк записал: «Полки радостно встретили своего старого соратника. Его речь встряхнула многих и заставила смотреть на происходящее более разумно».
Боевой дух ударников находился на высоте и без лирических домыслов доморощенного летописца.
Костяк дивизии – молодое идейное офицерство, на биологическом уровне ненавидевшее большевиков, передохнув, готово было возобновить погибельную драку. Воюя пятый год кряду, эти ландскнехты[43]Доброволии мирного выхода из междоусобицы для себя не мыслили. Забубённый лозунг «Победа или смерть!» был их девизом.
Юноши-добровольцы, студенты и гимназисты, недавно примкнувшие к белым, воинского опыта не имели, но обладали искренним романтическим порывом. Сплотив вокруг себя преданную интеллигентную прослойку, старые корниловцы в бою могли не страшиться пули в затылок.
Офицеры-фронтовики, поставленные под ружьё мобилизацией, руководствовались правилом: «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй». Определённый урон противнику они причиняли.
Весомую силу представляли собой бывалые солдаты и унтера. Армейское ярмо им ещё на германской войне обрыдло, но благодаря долготерпению русского мужика они продолжали тащиться в господской запряжке, выполняя приказы неугомонных начальников.
Пленных красноармейцев и мобилизованных селян в «цветных» полках насчитывалось теперь до половины от общего числа штыков. Эта политически тёмная масса воевать не желала категорически, но также она и не смела противиться беспощадной воле поводырей в красно-чёрных погонах.
Сходную разблюдовку имели советские части на противоположном берегу Дона. Конечно, с поправкой на классовую и национальную составляющие их ядра.
Следующие сутки корниловцы провели в подготовке к выступлению на передовую.
Второго февраля полки погрузились в эшелоны, отправившиеся на станцию Батайск. Оттуда с рассветом Скоблин повёл людей походным строем в Койсуг, занимать позиции. Короткий переход получился бы прогулкой, кабы не клятая стужа, приведшая к обморожениям среди бойцов. Дивизии отвели участок до станицы Елизаветинской исключительно.
Три дня прошли в оборонительных боях. Ежедневные атаки красных отбивались ударниками без труда, настойчивости враг не проявлял.
Шестого февраля корпус генерала Кутепова получил приказ наступать. Свершилось! Корниловцам предстояло идти на Ростов через станицу Гниловскую, её планировали с налёту захватить ночной атакой.
В авангарде шёл первый полк. Второй – за ним по пятам. Правее двигались запасный Корниловский полк и первый Марковский.
Марковская пехотная дивизия, возрождённая после декабрьского разгрома в селе Алексеево-Леоново, наконец, вернулась на фронт. Командовал соединением генерал Канцеров. По дороге из ближнего тыла марковцы завернули на побережье Азовского моря, где утопили в крови восстание, поднятое в Ейске местным подпольем. Оставшиеся в живых повстанцы рванули через замёрзший залив в направлении Таганрога. Вдогон ударила артиллерия, сокрушая гранатами лёд. Двадцать вёрст пути немногим удалось одолеть, счёт утонувших и замёрзших шёл на сотни. Когда победители покидали усмирённое побережье, «благодарное» население шипело в спины: «Погодьте, чернопогонники, мы вам Ейск припомним!»
Уступом за левым флангом корниловцев встала «ящиками» регулярная кавалерия генерала Барбовича. Ближнее, особенно чёткое каре составлял Сводно-гвардейский полк.
Наступление началось в ноль-ноль часов. Погода помогала добровольцам, маскировала отчаянный ночной маневр хлопьями снега, густо с чернильного неба валившими. Отрадно, что небесная канцелярия на сей раз не разразилась круговертью пурги или того хуже – слепой метелью.
Войска двигались заснеженной равниной. Белое покрывало поймы девственным не было, там и сям его пятнали тёмные проплешины скованных льдом речушек и небольших озёр. Заболоченные низины надёжно промерзли, это позволяло деникинцам резать местность по кратчайшему вектору.
Пехота шла побатальонно, кавалерия – полковыми «ящиками», артиллеристам место было отведено в арьергарде с наказом «не отставать». Над плотно сбитыми колоннами курился туман отрывистого дыхания тысяч молодых здоровых мужчин, поспешавших на смертельную страду. При подготовке к наступлению командиры правдами и неправдами постарались обмундировать своих людей сообразно собачьему холоду. Утеплились, как могли, поголовно, и тем не менее сейчас даже счастливые обладатели полушубков и валенок шагали резво, согреваясь ходьбой. Соответственно, у старших начальников не возникало нужды подстёгивать строй окриками «шире шаг».
Не унимавшаяся от самого Крещения стужа нынче ставила рекорд. Минус двадцать пять градусов по шкале Цельсия показал ртутный термометр. И это на юге, рядом с морем!
Ночь, снег валит, кладбищенское безмолвие, холодрыга. Люди теряли счёт времени. Те, кто имел часы, не пытались разглядеть конфигурацию стрелок на циферблате, любые лишние шевеления попусту расходовали силы и тепло.
Вот завиднелось главное русло Дона – широкое, с плавным изгибом. Не замедляя хода, корниловцы сошли на замёрзшую гладь реки и через плавни, хоронясь в зарослях, направились вниз по течению. Теперь задувавший с севера ветер сделался встречным, ледяным наждаком обдирал он лица, мучения превращая в настоящую пытку. Садист-низовик, впрочем, и добрую службу сослужил, относя от вражьего стана предательское шуршанье сухого тростника и скрип снега, рождаемый сапогами.