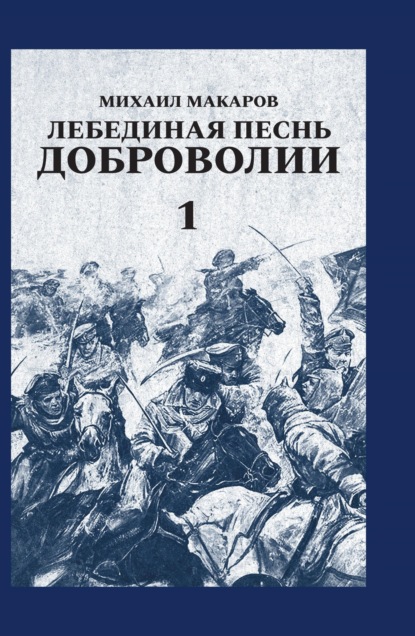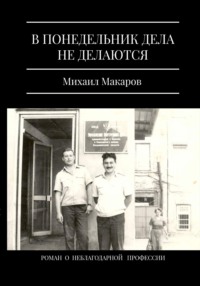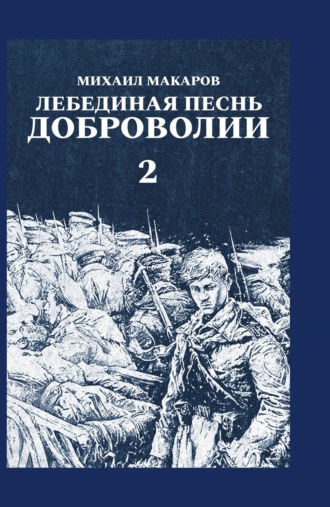
Полная версия
Лебединая песнь Доброволии. Том 2
Любимчиков среди подчинённых Владимир Константинович не культивировал принципиально. Заведутся фавориты, значит, будут и парии, которые махнут рукой на свою репутацию и гирей потянут дивизию на дно.
Первой (читай – лучшей!) ротой Кексгольмского полка командуя, Витковский придерживался правила: «У меня плохих солдат нет». Только так и отвечал инспектирующим на строевых смотрах всех уровней.
Из трёх полковников генерал счёл нужным выделить Титова. Одобрил первоочередные шаги того в качестве командира части.
– Всеволод Степанович, так держать.
– Слушаюсь, ваше превосходительство! – палево-рыжий скуластый крепыш Титов ретиво привскочил, рукавом смахивая со стола бумаги.
Волнения нового командира полка Витковский не осудил. Причина ясна – колоссальная ответственность легла на его плечи.
Хватит ли у заурядного армеута потенциала решать сложнейшие командирские задачи в современных условиях? Зачастую причём самостоятельно, в условиях цейтнота. Судя по наградам (от «клюквы»[31]– до «Владимира» с мечами), в большую войну Титов трудился добросовестно. Но сейчас, сражаясь с противником, многократно превосходящим числом, говорящим с тобой на одном языке, идейно мотивированным, усердия и храбрости мало. Мыслить надлежит неординарно, как тот же Туркул…
«Чёрт, чёрт!» – генерал передёрнул плечами и, маскируя досаду, стряхнул с борта отутюженного кителя невидимую пушинку. Как внутренне ни противился, а на уровне подсознания признал таланты предприимчивого бессарабца. Ладно – ещё вслух не транслировал.
Поезд главнокомандующего задерживался, и Витковский успел принять доклад у командира час назад выгрузившегося из вагонов конного дивизиона. Штаб-ротмистр Коршун-Осмыловский был преисполнен значимости, не соответствующей скромным параметрам его подразделения. Из двух эскадронов общим числом сорок сабель оно состояло. Одно название что дивизион. Тот самый шерсти клок, которым довольствуются, подстригая худую овцу.
Дивизион формировался в недрах тыла с начала аж осени. Волокиту Коршун-Осмыловский объяснял импотенцией интендантства. Пришлось бомбардировать тыловых крыс грозными депешами за подписью самого генерала Кутепова, чтобы получить хотя бы полуфабрикат. Регулярная конница у добровольцев была в диком дефиците. Посему приходилось радоваться и такому копеечному прибытку.
К слову, отдельная добровольческая бригада, в мае 1918 года приведённая полковником Дроздовским на Дон из Ясс, собственную кавалерию имела. Её конный полк состоял из четырёх эскадронов, пулемётной и сапёрной команд, и в драке представлял собой увесистый кистень. Под командой Дроздовского кавалеристы с честью проделали весь второй Кубанский поход, сотканный из непрерывной череды мелких стычек, яростных боёв и изнурительных многодневных сражений. После смерти Михаила Гордеевича конница у «дроздов» была изъята, её влили в сводное соединение. В Ставке говорили – временно! Но не бывает более постоянных решений, чем те, что ангажируются временными.
В лоно родной дивизии конные дроздовцы не вернулись. Они отступили в составе войск генерала Шиллинга к Одессе. Оттуда уже под командой генерала Бредова двинули в Тирасполь. Известно было, что Бредов планирует идти в Румынию для последующей эвакуации своей группы морем в Крым. Вопрос, пустят ли на свою территорию экс-союзнички тех, кто в шестнадцатом году, неся огромные потери, грудью заслонил их, вдребезги расколоченных немцами и болгарами…
…Если не считать грома красной артиллерии, с утра крывшей не только по Азову, но и по Петрогоровке, на участке дивизии было спокойно.
Генерал Деникин прибыл в пятнадцать ноль-ноль. К этому времени большевики заткнулись, исчерпав, верно, дневную норму снарядов.
На расчищенной от снега вокзальной площади для встречи выстроились дроздовцы. Первый полк был представлен батальоном Ханыкова и командой пеших разведчиков, полк Манштейна – батальоном, квартировавшим в Азове.
В первую шеренгу командиры отобрали стрелков в английских шинелях горчичного цвета. Однообразно обмундированные шпалеры олицетворяли регулярную армию, сохранившую суровую дисциплину и волю к дальнейшей борьбе.
По центру стояла трёхдюймовая батарея, родная дроздовская, постоянно работавшая с Манштейном.
Замыкали строй Иркутские гусары – образчик возрождённой кавалерийской части. Кургузый дивизион, не тянувший численностью даже на полуэскадрон, годился лишь для ведения ближней разведки. Гусары были приданы «дроздам» недавно, проявить себя не успели.
Из двери вокзала, предупредительно распахнутой адъютантом, вышел главком. Экипирован он был по-зимнему – крытая серым сукном бекеша со скромными полевыми погонами; белая лохматая папаха нахлобучена по брови; портупея, так и не сумевшая утянуть выпирающее брюшко; на боку – кривая кавказская шашка. Правый глаз Деникина закрыт повязкой цвета хаки.
Необычная деталь подтвердила информацию – генерал расшибся, упав с лошади на смотре кубанской конницы. Потому он и не прибыл в назначенный день в Азов. В то же время бодрый вид Антона Ивановича развеивал слухи, будто он, сильно покалеченный, лежит в гипсе и без памяти.
Витковский скомандовал «смирно» и пошагал навстречу главнокомандующему. Порхающая ловкая поступь начдива, кажущаяся небрежность отточенных жестов создавали особый строевой шик, исключительно лейб-гвардейцам присущий.
Чеканя доклад, Витковский отметил, как сильно поседела у Деникина за месяц, что они не виделись, борода. Сплошное серебро, ни единой тёмной прядки.
Но держался главком ВСЮР демонстративно молодцевато, здоровый глаз блестел, под усами – радушная улыбка.
– Здравствуйте, славные дроздовцы! – Деникин вышел на середину строя, поприветствовал стрелков.
Батальоны откликнулись старательно, сотни глоток выбросили в стылый воздух клубки мутного пара. Особенно чётко рявкнул батальон Манштейна. Стояние в Азове не прошло даром, однорукий полковник, что называется, «подвинтил гайку».
Деникин прошагал дальше, натянутая тишина позволяла расслышать скрип его сапог и звяканье шпор.
– Здравствуйте, славная дроздовская батарея!
Артиллеристы выдали ответ пожиже, чем пехота, на троечку.
Гусары, можно сказать, опарафинились. Вразнобой ответили. Ладно, клячи их в разные стороны не шарахнулись, строя не сломали. Затоптались только, захрапели встревожено.
– Благодарю за боевую работу! – пухлая пятерня главкома, облитая хромовой перчаткой, взлетела к папахе. – Там, где стояли дроздовцы, всегда было прочно и устойчиво. Ваше имя многое говорит, но и ко многому обязывает! Не сомневаюсь, что в предстоящем в ближайшем будущем наступлении, которое, надеюсь, будет последним, вы впишите не одну славную историю в вашу героическую боевую историю!
Речь была в излюбленной манере Деникина – мудрёно сконструированная, витиеватая, простому человеку не продраться до сути сквозь кудрявые завитушки эпитетов.
«В предстоящем… в ближайшем… в будущем… Скажите, ваше превосходительство, когда конкретно?! – брюзжал мыслями Витковский, сберегая на породистом лице маску почтения. – И что значит – последнее наступление? Каким бы удачным оно ни вышло, стратегической победы оно нам не подарит. Методом исключения прихожу к выводу, что последним сие наступление станет именно для нас. Наша лебединая песнь, если выражаться поэтично. Если доходчиво формулировать – конвульсия. Да-с!»
Потом войска прошли церемониальным маршем, за который в Кексгольмском полку господ офицеров поголовно бы законопатили на гауптвахту. Проковыляли, как калики перехожие[32], для полного сходства посохов не хватало! Вслух Витковский оценил строевую подготовку лучших батальонов своей дивизии как удовлетворительную. Скрепя сердце сделал скидку на нынешний бардак.
Надо признать, приезд главкома поднял настроение солдатской массе. Людям полезно воочию увидеть верховного вождя, на гений которого они возлагают преувеличенно большие надежды – не даст пропасть, выведет…
Птица-тройка унесла генерала Деникина в Азов, в штадив. Учинённый им разбор оперативной обстановки на участке дроздовцев носил формальный характер, четверти часа для мало-мальски серьёзного анализа недостаточно.
Стемнело, когда поезд главкома упыхтел на станцию Каял, где по-прежнему находился штаб Добровольческого корпуса. Витковскому и командирам его полков приказано было сопровождать Деникина.
Возвратились дроздовцы поздно вечером. Туркул, добравшись до Петрогоровки, созвал ближний круг. К чаю выставил пузатую бутылку «Martell», презентованную, с барского, так сказать, плеча генералом Достоваловым. Промочив горло, полковник пересказал наиболее важные моменты каяльского совещания. Главком выступил с докладом перед старшими начальниками «цветных» дивизий. Прямым текстом заявил – приказ о наступлении по всему фронту он отдаст со дня на день.
– Антон Иваныч – спокойный, как слон, видно, что уверен в наших силах, – разомлевший от французского коньяка Туркул благодушно скалил зубы.
Имелась, однако, у него и дурная новость. В далёкой Сибири соратники по белой борьбе потерпели полную катастрофу, адмирал Колчак – в плену.
Взбудораженные «дрозды» угомонились далеко за полночь.
Ночью умер от тифа оперативный адъютант Янчев. На больничную койку его уложила тяжёлая контузия, сыпняк догнал штабс-капитана в лазарете. Не сподобился выкарабкаться из лап костлявой Боря Янчев, в декабре здорово отличившийся в Донбассе. В начале отступления Туркул вверил ему сводный батальон, рыхло слепленный из вчерашних красноармейцев. При этом полковник допускал, что много новобранцев по дороге дезертирует. Ан, ушлый Янчев привёл в Мокрый Чалтырь больше штыков, чем получил. И своих бойцов не растерял, и в пути следования ещё семь десятков насобирал с бору по сосенке: отставших от других частей, добровольцев, самочинную мобилизацию даже провёл в прифронтовой полосе…
Поутру дроздовцы чуть не прошляпили наступление противника. Спохватились, когда красные цепи молчком по темноте успели одолеть половину расстояния между Елизаветинской и Азовом. Завязывался очередной бой, солидный, судя по тому, как широко заводили невод «товарищи» – от Кагальника и до самого Батайска.
– Вот и наступление обещанное! – язвительно сообщил Витковский своему отражению в зеркале. – Что столбом застыл, Афанасий? Продолжай! – следующие реплики адресовались ординарцу, при первых разрывах снарядов поспешившему отнять золингеновское лезвие от густо намыленной щеки генерала.
Предстать перед дивизией с небритой физиономией Владимир Константинович не мыслил.
7
12–30 января 1920 годаСтанция Каял – село СамарскоеВ окопах под пулями время на улитках ползает, в тылу же мчится, как нахлёстанное. По ощущениям – будто вчера корниловцев отвели в резерв на станцию Каял, а отрывной календарь на стене успел на целых двадцать листков похудеть. Хотя начинаешь пальцы загибать и обнаруживаешь, что изрядно, оказывается, событий последние декады января в себя вместили. Особенно, если тебе, как Маштакову Михаилу Николаевичу, приходится на новом месте обживаться, новое ремесло осваивать и вдобавок подстраиваться под придирчивые требования нового ротного.
К экзамену по матчасти Маштаков подошёл серьёзно. Вечер, не по своей воле потраченный на аккомпанемент Курскому соловью Плевицкой, компенсировал бессонной ночью. До подъёма при чахлом свете моргающего каганца штудировал руководство по ружью-пулемёту «льюис» образца 1915 года. Содержание тоненькой брошюрки оказалась заковыристым, пришлось попыхтеть.
Память у Маштакова в тридцать шесть лет не такая, чтобы козырять ей сокурсникам, как в длинноволосом студенчестве, однако пока не дырявая. Зубрить штабс-капитан не пытался, инструкция техническими терминами изобиловала. Утрамбовывал материал в извилинах слой за слоем, подчиняя мнемонической схеме, на ходу самим же изобретённой.
Командир пулемётной роты Горчаков был первопоходником радикального толка. Белое офицерство он делил на «старых честных добровольцев» и «сомнительных попутчиков». Навяленный ему потасканный субъект с замотанной грязным бинтом кадыкастой шеей явно относился к категории последних. Посему Горчаков вознамерился каналью на экзамене срезать и турнуть обратно в офицерскую, где от него будет меньше вреда.
Роль аудитории исполнял угол крестьянской хаты, отгороженный линялой занавеской. Горчаков опустился на походную кровать, ногу на ногу вальяжно забросил. Указал Маштакову глазами на некрашеный табурет. Закуток тесен, а командир пулемётчиков голенаст – аист, да и только. Маштаков острыми лопатками в стену вжался, дыхание затаил и всё равно при малейшем шевелении тыкался коленями в небрежно покачивающийся сапог экзаменатора.
Затравки ради Горчаков накинул пустяковый вопрос:
– Из какого количества частей состоит «льюис»?
– Из шестидесяти двух! – выпалил Маштаков без раздумий.
– Принадлежности сюда входят? – уточнение таило в себе подвох.
– Не считая принадлежностей! Они, это самое, частей пулемёта не составляют.
Далее ротный повыспрашивал про систему охлаждения. Испытуемый его непраздное любопытство удовлетворил. Перешли к вопросам приведения пулемёта в действие. Про стрельбу единичными выстрелами поговорили, автоматическую стрельбу с перерывами подробно обсудили, добрались до автоматической непрерывной стрельбы. Маштаков отвечал со знанием дела.
Горчаков качнулся на продавленной панцирной сетке, как в гамаке, только с натужным скрипом. Сардонической ухмылкой дал понять – это присказка, не сказка…
– Ну-с, перейдём к взаимодействию частей пулемёта.
Соискатель начал бойко, но на второй фразе споткнулся.
– Это самое, это самое, – залепетал.
Технические термины закружили хоровод в мозгу, и, вероятно, сдулся бы Маштаков, не ошпарь его ротный глумливым взором. Содрогнулся Маштаков, как от оплеухи, сгофрировал лоб, подбородок сжал в горсти. Понудил себя сконцентрироваться. Начал слова подбирать, фразу выстраивать. И выплыл-таки, не захлебнулся.
Лицедей Горчаков не подал виду, что разочарован.
– Перечислите движущиеся части! – позёвыванием изобразил скуку.
– Приводной шток, боевая личинка, подающий шип, подающий рычаг! – первые позиции у экзаменуемого горохом от зубов отскочили.
Пауза… Жилистая пятерня полезла за подсказкой в затылок, поскребла с хрустом. Петушиным гребнем на макушке вздыбились сальные волосы.
– Собачки магазина… это самое, как его… главная пружина… спусковой механи-изм… – Маштаков перечислял тягуче и, когда умолкал, принимался мучительно гримасничать.
Горчаков пощипывал густые усы, они у него двуцветные были – вороной с матовым отливом колер преобладал, а колючие кончики – ядовито-рыжие от курения крепчайших турецких табаков.
– Ручка для первого заряжания! Предохранитель! – отстрелялся Маштаков и с облегчением шаркнул по взмокревшему лбу рукавом чёрной гимнастёрки.
Струйки пота, сквозь брови просочившиеся, щипали глаза. Едкие, зараза, как кислота!
– Что нужно сделать после стрельбы? – судя по вопросу, ревизия знаний близилась к завершению.
У обнадёжившегося абитуриента второе дыхание открылось:
– Немедля разрядить пулемёт, осмотреть канал ствола, рабочие части и трущиеся поверхности. После чего их вычистить и смазать по возможности скорее!
– Гляжу, верхушек в теории вы нахватались, – с кислой миной резюмировал Горчаков.
Разборка-сборка «льюиса» также проблем не вызвала. Спасибо за науку Юрию Васильевичу Морозову! Земля пухом выпускнику Ораниенбаумских пулемётных курсов, пулемётчику-виртуозу. Натаскал Маштакова, когда полк в Нахичевани стоял.
Отыгрался Горчаков на тактических занятиях, где прикомандированный офицер показал себя профаном. Получив команду обеспечить фланг занявшей оборону пехотной роты, вылез на сто саженей вперёд цепи в степь.
– Все трое – покойники, «льюис» с санями и клячей Будённому презентовали! – объявил Горчаков и принялся цукать[33]штабс-капитана, как приготовишку.
Маштаков осознавал свой промах, слушал терпеливо, но стоило ротному подступить к черте, за которой – посягательство на честь офицера, заиграл желваками.
Ситуацию разрядил проезжавший мимо капитан Кромов. Это его батальон отрабатывал взаимодействие с пулемётчиками.
– Так, так его, Мстислав Константинович! Приветствую, – Кромов натянул поводья, пластично свесился в седле, подавая Горчакову руку.
Гнедая под ним озорно приплясывала, и рукопожатье вышло символическим.
Комбат крутнулся к насупленному Маштакову:
– Михаил Николаевич! Рад встрече. В пулемётчики переквалифицировались?
– Вы знакомы? – Горчаков насторожился.
– Угу, – худое лицо Кромова, выстеганное ледяными ветрами, полыхало багрянцем. – В одной ватажке из бандитского плена драпали.
Означенную историю в стиле мастера французской авантюрной прозы Луи Буссенара Горчаков, разумеется, слышал. В полку она ходила в разных вариациях.
– Прошу проявить к моему компаньону снисхождение, господин капитан, – Кромов скривил узкогубый рот гримасой, заменяющей улыбку.
Горчаков выразительным кивком ему ответил. Как не уважить просьбу, коль они с Кромовым одного добровольческого сословия? Чистопородные!
Помимо родословной, их объединяла нелюбовь к врид командира полка поручику Дашкевичу. Оба убеждены – не по уму и заслугам вознёсся семинарист Миша Чёрный, исключительно благодаря патронажу полковника Скоблина, который при всех его бесспорных командирских достоинствах падок на лесть и плоховато разбирается в людях.
Пользуясь случаем, Горчаков под орех разнёс расписание полковых занятий:
– Какой смысл изо дня в день тупо репетировать оборону?! Скоро идём на Ростов, так надо людям напомнить, как наступают. И обязательно разок-другой прогнать роты под завесой пулемётного огня с полузакрытой позиции. Пополнение сырое, надобно сиволапых выдрессировать. Чтобы не паниковали, когда пулемёты поверх голов, с рассеиванием по фронту работают. Не то деревенщина наша разбежится в бою, как стадо баранов!
– Соглашусь при условии, что первым номером, за «максимом» лично вы, Мстислав Константинович, будете работать, – учёба на юридическом факультете развила у Кромова способность к дипломатии.
На деле поддерживать идею тренировок с боевой стрельбой он не собирался. Кромов никогда не строил из себя фаталиста.
Разбирая поводья, каблуками понуждая лошадь тронуться, он подсказал Маштакову:
– Левую щеку разотрите, штабс-капитан. Прихватило.
Командир пулемётной роты понял – его дельное предложение улькнуло в пустоту, в связи с чем мысленно подосадовал: вот несмотря на то что Кромов – первопоходник и вроде бы идейный, есть в нём либеральная гнильца, объясняемая, впрочем, банально. Офицером Кромова не планида[34]сделала – война, отсутствует в нём кадровый стержень. Очкастые профессора в университетах навялили таким, как Кромов, вредную привычку рефлексировать по любому поводу.
«Великоват ему капитанский чин. Поручика бы за глаза хватило», – констатировал Горчаков, провожая взором напряжённую спину батальонного, задрыгавшуюся, как деревянная марионетка на верёвочках, лишь только лошадь перешла на рысь.
Веское слово Сергея Васильевича Кромова помогло. Спрос остался, зато убавилось мелочных придирок и обидных эпитетов. Маштаков старался не давать ротному повода для нападок и за подчинёнными следил, благо их всего двое было.
Второй номер расчёта – семнадцатилетний доброволец Арсений Бондаренко громадное усердие к службе проявлял. Относился к разряду ненавоевавшихся романтиков.
Ездовой Сляднев тянул солдатскую лямку тяп-ляп. Как записали Ваську сызнова в беляки, тотчас нацепил он личину простачка деревенщины и более её не стаскивал. Оружия не касался, погоны приладил на гнилую нитку, но по свычке вершил попутный крестьянский промысел. Сперва двуколку починил, а когда расчёту повезло санями разжиться, их обиходил. Подлатал упряжь – хомут, супонь, подпругу. Регулярно задавал лошади сена, в добычливые дни овсом баловал, поил её и чистил. Выцыганенной у коновала[35]вонючей мазью пользовал лошадку от «спотыку́чести», так Василий болезнь путовых суставов[36]нарек. Уход шёл кобыле на пользу – шерсть погустела, заблестела, перестали рёбра наружу выпирать. Так что, пожалуй, несправедливо капитан Горчаков продолжал титуловать их Карюху клячей.
Бдительный Арсений, в силу возраста не понимающий преждевременности тотальной опеки, хвостом таскался за Слядневым, который о дезертирстве и не помышлял. Рано. Станция наводнена свирепым офицерьём, сто раз на дню случались поверки-построения. Вдобавок морозище крепчал.
Соглядатая, невзирая на его малолетство, Васька стерёгся. Дури в том было немерено и всегда на боку – заряженный наган. Стерёгся, но знал – в нужный момент он балбеса охмурит.
А вот штабс-капитана Маштакова пермяк совершенно не боялся. По Васькиному разумению офицер был не от мира сего. Сам себе чистил сапоги, на бесправного нижнего чина Сляднева не покрикивал, кулак в харю ему не совал и Бондаренке рукоприкладствовать не дозволял, частенько говорил Ваське «вы», будто в глазах у штабса двоилось, и это на трезвую голову. Каждую свободную минуту Маштаков утыкивался в книжицу про пулемёт, шуршал листками, карандашом на полях чирикал и ничегошеньки-то вокруг себя не замечал.
Худого не видел Василий от своего командира, оттого услужить ему не считал зазорным. Господа, они к жизни плохо приспособлены. Прокормиться, одёжку постирать, побаниться – на каждом шагу у них закавыка.
Когда корниловцев с передовой отвели в Каял, разок они, грязнущие, завшивевшие до безобразия, помылись организованно. Минула неделя, и выяснилось, что на станции туго с дровишками, заготовить негде, на все четыре стороны – голая степь. Жильё худо-бедно отапливали, на баню же дров не отпускалось. Но тиф лютует, гигиену справлять надобно, и комендант завёл очередность помывки многочисленного служивого люда. До пулемётчиков черёд дошёл на исходе января месяца.
Притопали строем в общественную баню, а там такой дубак, что даже в парилке шинель снять боязно. Заиндевелая груда кривых сучьев в углу валяется, но ими и мыльного отделения не прогреть.
Потолкались в неприютном помещении господа оберофицеры с вольнопёрами, уныло ругнули охамевших тыловых крыс и не менее уныло к выходу потянулись. Маштаков – в их числе, порог уж переступил, его придержал за хлястик Васька.
– Вашбродь, – так он обращался к штабс-капитану, хотя тот утверждал, будто в Добрармии никаких «благородий» нет.
«Право слово, блаженный! «Благородия», они во всякой армии, при всякой-разной власти водятся», – кондовые мужицкие знания вернее книжных, Сляднев в этом убеждён.
– Погодьте, вашбродь… Я чё изобрёл-то…
«Изобрёл» пленный красноармеец следующее. Баня была под одной крышей с прачечной, посредине которой на земляном полу на треноге стоял огромный крутобокий чугунный котёл, закопчённый до эфиопской черноты. Под означенного «эфиопа» ездовой перенёс хворост из предбанника, разжёг. С гулким пристуком уложил на дне чана впритык три кирпича. Воду с колодца Васька таскал не один, в четыре руки с Арсением.
Затрещали, в трудно разгорающемся огне корчась, сырые ветки, дым пополз кверху, в его ядовито-белой гуще мелькали юркие языки – рыжие, рваные, облизывали шершавые чумазые бока казана.
Сляднев в воду указательный палец макнул.
– Годится. Одёжу скидовайте, вашбродь, да залазьте.
С заминкой на осмысление происходящего Маштаков внял совету. Обмундирование штабс-капитана перекочевало в вытянутые руки Сляднева. Полетел в корыто комок грязного, мокрой псиной пахнущего белья.
– Оставь, сам разберусь! – окрик остановил нагнувшегося за тряпичным свёртком Ваську.
Самостоятельно залезть в котёл голый офицер не смог, ему ассистировал второй номер, за локоть поддерживал. При виде жуткого фиолетового рубца, опоясывавшего впалый бок Маштакова, Арсений с уважением цокнул языком.
– Штыковое?! В штыки ходили? Ну, вы молодчага, Ми-хал Николаич. Где вас угораздило?!
Вместо ответа штабс-капитан с предосторожностями перенёс худую волосатую ногу через край казана, на который опирался руками. Он норовил переместиться внутрь до того, как очередной раздвоенный язык пламени вспорхнёт снизу и опалит телеса, как кухарки палят ощипанную курицу перед потрошением. Гимнастическая лёгкость упражнению не сопутствовала, однако обошлось без кряхтения и суетливых дрыганий конечностями. Даже не шаркнула о чугунный борт мошонка, от холода и страха сжавшаяся в клубочек.
Переступая на шатких бугристых кирпичинах, Маштаков старался утвердиться поустойчивее. Не хватало ещё грохнуться. Воды было почти по пояс, и она успела нагреться до сносной температуры.
– Так откуда шрам, господин капитан? С большой войны?! – репьём цеплялся доброволец.
– Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Вам, юноша, я другое место оторву. Пр-ричинное! – обычно дружелюбный офицер рыкнул так, что желание любопытствовать у Бондаренко отпало.