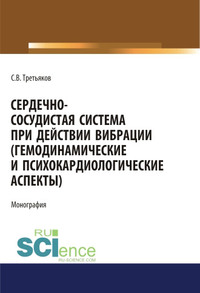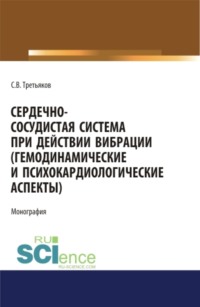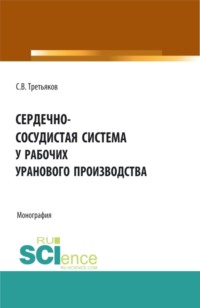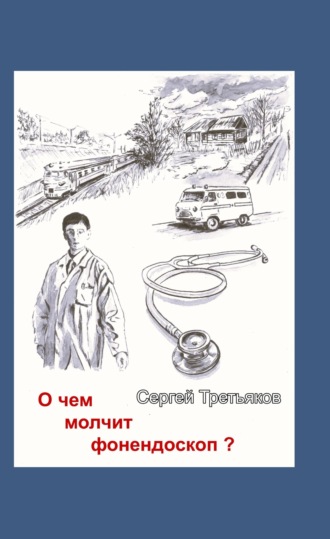
Полная версия
О чем молчит фонендоскоп?
Я начал лихорадочно вспоминать инфекционные болезни. Опять в дело пошло руководство, которое я старательно штудировал ровно год назад, будучи еще студентом шестого курса. Мне нравился этот раздел медицины, но больше с теоретических позиций. Вспомнилось, как я, борясь с волнением, выступал с докладом и как доцент – рослая полная женщина, по внешности чем‐то напоминающая артиста Моргунова, внимательно прислушивалась к тому, о чем я вещал, и после окончания доклада сдержанно, но доброжелательно меня похвалила.
Память в стушеванных красках воспроизвела другое занятие, которое вел маленький краснолицый, с сизым носом мужчина, в облике которого здорово угадывалось пристрастие к горячительным напиткам. Он заговорщицким тоном говорил, переводя мутный взор то на одного, то другого студента: «Сальмо-нел-ла. Во-от когда ставят гуся в духовку, зарумянят его, то под поджаристой корочкой она больше всего и гнездится…».
Всплыл еще один доцент, черноглазый, черноволосый, не без желчи, занудный мужичонка, который ходил перед группой, каждого разглядывая своими воспаленными, с каким‐то нездоровым выражением, глазами и говорил: «И что бы вы думали?! На этой неделе в нашем любимом Липово – дизентерия…».
И вот уже при сдаче экзамена седовласый с породисто-благородным лицом преподаватель, водя одной своей старческой набрякшей рукой по другой, таинственно произносил: «…при псевдотуберкулезе шелушение кожи сходит струпьями…».
Я хорошо помнил всех больных, которых мне приходилось каждый день осматривать в качестве студента. Палата была на восемь коек. Среди пациентов был немалый процент «проблемных» личностей, ведущих достаточно свободный образ жизни. Охотникилюбители, рыбаки, жители сельской местности, а также неряхи и грязнули оказывались под одним палатным потолком. Один пройдоха вещал другому: «А я Зинке говорю, когда она в карты продулась, давай лезь под стол и чтобы час под ним сидела. Так она…».
И сейчас я готовился к встрече с таким специфическим контингентом. Так как палаты в отделении находились на первом этаже, кустарники и деревья их сильно затеняли и делали сумрачными и неприветливыми. Однако больные оказались все не тяжелыми, с хорошим, оптимистическим настроем. Я старался соответствовать ему. В целом месяц прошел благополучно. Вернулась заведующая. Я с радостью снял с себя «инфекционный мундир».
Пока я был в инфекционном отделении, кардиологическое отделение, где я начинал работать, закрыли на косметический ремонт. Даниила Ильича направили в терапию.
И вот, как раз к окончанию работы в инфекционном меня опять вызвал к себе начмед и попросил пока поработать в кардиологии, пообещав, что скоро найдут врача. Я по своей неопытности подумал, что речь идет о двух-трех днях, и согласился.
Приступил к работе. Больные начали прибывать. Заполнилась одна палата, вторая, третья… Прошло два дня, прошло три дня, помощи не было. Я уже с трудом успевал делать обход и вести документацию. На четвертый день, когда я сидел за столом в ординаторской и заполнял историю болезни, дверь резко с шумом распахнулась, и на пороге возник Виткин. Не здороваясь со мной, он резко, возмущенно бросил: «Тебе зачем это надо?! Ты вообще соображаешь, на что согласился?!». Но что в ответ я мог сказать? Виткин, наверное, подумал, что мной движет тщеславие, что я хочу выставить себя в роли заведующего. Но этого и в мыслях не было. Я вновь пошел к начмеду. Объяснил, что количество больных в отделении достигло уже сорока и что я уже не справляюсь с нагрузкой. Начмед молча недовольно меня выслушал, потом сказал: «Завтра будет тебе помощник».
И действительно, утром объявился новый врач. Но новым он был для меня. На самом деле это был уже перешагнувший далеко за средний возраст мужчина из коренных жителей Лугового. Он работал в поликлинике гастроэнтерологом. Немного присмотревшись к нему, я обратил внимание на его особенность: он периодически сглатывал воздух, затем опускал голову и, как бы сдерживая себя, производил отрыжку воздухом, надувая при этом тощие щеки.
Образовавшаяся бригада «Ух», из меня и гастроэнтеролога, должна была теперь оказывать квалифицированную кардиологическую помощь. Но дело пошло повеселее, а вскоре меня перевели в поликлинику. Как дальше справлялся гастроэнтеролог с кардиологией, я не знаю.
Ноябрь приближался к середине. Началась амбулаторная практика. Я делал тщательные записи в медицинских картах, старался внимательно смотреть больных. Помещение, в котором я оказался, граничило с кабинетом Воеводиной Генриетты Викторовны. Я видел ее раза два. Это была остроносая пожилая женщина с голубовато-мутноватыми, чуть навыкате глазами, с ярко-красной помадой на морщинистых тонких губах и гладко зачесанными на затылок волосами медно-коричневой окраски, переходящей к корням в белый цвет. В прошлом году ей присвоили звание заслуженного врача. Про нее говорили: «Представляешь?! Сорок лет на одном участке – такого больше не встретишь!». Стена, разделяющая наши кабинеты, имела общую вентиляционную решетку, и когда Воеводина начинала прием, то явственно слышался ее резкий каркающий голос, обращенный к больному: «Открой, открой рот! Все, все! Закрывай, закрывай! Дыши, не дыши! Все, все! Одевайся…». И так весь день. Ее муж, высокий мужчина с бледным, одутловатым лицом, с сильно нависающими веками на глаза и толстым носом, работал в этой же больнице психиатром и невропатологом. Казалось, что он весь погружен в себя и при встрече со мной каждый раз вел себя так, как будто или не узнавал меня, или делал вид, что меня не знает. Терапевты вызывали его на консультации к больным. Когда его спрашивали: «Ну что? Что с больным?», он опускал голову, начинал смотреть в пол, переминаясь с ноги на ногу, и гнусавым голосом с трудом выдавливал из себя несколько маловразумительных фраз. Одна начинающая врачиха с нескрываемой злобой вещала: «Больной плохо – спрашиваю: что с ней? что делать? А он стоит мычит и переминается. Так бы и дала ему по башке!».
Во время работы в поликлинике меня очень волновали вызова к больным на дому. Если на рабочем месте при какой‐то неясности можно было обратиться к более опытным коллегам, то при посещении пациента на дому такой возможности не было. И, где‐то местами скользя по льдистым участкам, где‐то пробуксовывая в глубоком снегу на заснеженных окраинах, разыскивая нужный номер дома, я с легким чувством беспокойства о предстоящей встрече с неизвестным пациентом размышлял: как сделать так, чтобы уменьшить степень непредсказуемости клинической ситуации. И постепенно нашел ответ на свой вопрос и на практике стал чувствовать себя более уверенно.
В один из дней я сильно переохладился. Сначала у меня появилась непонятная слабость и пульсирующее, распирающее чувство внутри первого и второго зубов на верхней челюсти, затем появилась боль, озноб, повышение температуры и на месте болезненности – отек. Я пошел к стоматологу. Стоматологический кабинет находился на втором этаже поликлиники. Пациентов, ожидающих в очереди, было не меньше пятнадцати. Я сел поодаль от кабинета на свободный стул и не знал, что делать. Я чувствовал, что переждать всю очередь будет невозможно. Зайти без очереди, сказать: «Я врач. Работаю в этой больнице» и попросить принять меня было неловко. Прислушиваясь к распирающей боли, чувствуя на лбу испарину, испытывая болезненную слабость, я сидел в унылом раздумье. Но тут дверь распахнулась, и от стоматологов вышел начмед. Он знал меня. Я сообразил, что это шанс, и направился к нему с просьбой посодействовать в приеме. Через десять минут я уже сидел в кресле. Стоматологом оказалась молодая миловидная женщина, которая работала в Луговом второй год. Нужно было «просверлить» зуб до пульпы и дать отток гною. Раздался знакомый с детства, «милый» сердцу визг бормашины. Первая попытка оказалась не совсем удачной. Бур вышел на противоположной стороне зуба, чуть пониже десны, но со второй попытки врач справилась. Выписала антибиотики, назначила повторный прием через пять дней. Я, чувствуя себя больным, с трудом зашел в аптеку, купил лекарства и пошел в свою каморку.
Голова у меня кружилась, дорога, казалось, то поднимается, то опускается. Я боялся упасть и не встать, растерянно посматривал на редких встречных прохожих. Растянешься на дороге – примут за пьяного и вряд ли помогут. В голове была одна мысль – только бы дойти… Через несколько дней я оклемался. Жизнь пошла в прежнем режиме.
Неожиданно сообщили: издан приказ, по которому врачам-интернам нужно отработать четыре месяца по месту распределения. Я был распределен в Пусто-звонку – село, известное в Слепневском районе своим зверосовхозом. Мне ужасно не хотелось туда ехать. Но и в Луговом были заинтересованы, чтобы молодых врачей, в партии которых я оказался, оставить у себя. Однако главный врач Слепневской ЦРБ начал названивать главному врачу ЦРБ Лугового, требуя направить меня по месту распределения. После нескольких недель сопротивления мне пришлось собрать свои пожитки и отправиться на другое место. Но, перед тем как поехать, я получил согласие от главного врача Лугового на то, чтобы я отрабатывал следующие три года у них. Я решил обратиться в Облздрав с просьбой о перераспределении. Меня сначала направили к заведующему отделом кадров. Им оказался низенький, толстоватенький мужичок с большой лысой головой, очерченной венчиком волос, лохматыми бровями и черными глазами, смотрящими через очки в тяжелой оправе. Он выслушал меня и категорически отказал.
Выйдя в коридор с неприятным чувством разочарования, я остановился, размышляя: как поступить? В голову пришла отчаянная мысль: идти на прием к самому заведующему Облздравом. Обратился к его секретарю. Передо мной оказалось только два просителя. Я сел и стал ждать своей очереди в пустынном, мрачном и прохладном коридоре. Не прошло и пяти минут, как показался лысый очкарик, у которого я только что был. Проходя мимо меня, он остановился и громко недовольно спросил: «Что вы здесь сидите?!». Я ответил: «Записался на прием к заведующему». На мой ответ очкарик зло и резко выкрикнул: «Я же сказал нет – значит нет!» и зашел в кабинет заведующего Облздравом. У меня упало сердце. Я надеялся, что разговор с главным будет идти с глазу на глаз и он сможет пойти мне навстречу. Надежда покинула меня. Через пятнадцать минут пригласили в кабинет. В глубине комнаты за столом, лицом к двери, сидел заведующий: полный мужчина с красным веснушчатым лицом и густой рыжей шевелюрой. Он метнул свои глазки-буравчики на меня. Вид у него было дежурно дружелюбный. Рядом, у приставного стола, сидел лысый очкарик. Он притворно внимательно пролистывал журнал «Наука и жизнь». Я сел напротив него. Заведующий, сохраняя радушие, попросил меня изложить суть вопроса. Я изложил. Он обратился к очкарику. Тот, не глядя на меня, стал доказывать необходимость моего отбывания следующих трех лет именно по месту распределения. Тогда заведующий по селекторному телефону связался с главным врачом Лугового. Разговор с ней был закончен в духе: нехорошо переманивать кадры. Положил трубку и, обращаясь ко мне, подмигнул: «Найдете себе какую‐нибудь чернобровую, заведете коровку, а?!» – и довольно рассмеялся. Я кисло улыбнулся. Аудиенция закончилась ничем.
Мне пришлось перебираться в соседний район. Дни стояли по-зимнему теплыми. Сел в утреннюю электричку и стал смотреть в запотевшее стекло. Вышел на назначенной мне станции. Спрашивая дорогу у разных прохожих, дошел до больницы Слепнево.
Поднялся к начмеду. Представился. Меня направили к заведующей поликлиникой. Она сразу позвонила коменданту общежития, в котором мне предстояло жить, и, обращаясь ко мне, сказала: «К трем часам подойдете, и вам выделят комнату. А сейчас можете уже приступать к приему». И я уже через пять минут старался выявить наличие хрипов у больного…
Прошли четыре месяца. Я вновь вернулся в Луговое, но теперь стал работать в терапевтическом отделении. Снова встретился с Даниилом Ильичом и Алексеем Весловским.
Долгое время в терапевтическом отделении не было заведующего. Из поликлиники периодически забрасывали начальствовать то одного терапевта, то другого, но при первом удобном случае они норовили убежать обратно. У них не было ни желания, ни знаний, ни способностей, необходимых для руководителя терапевтического отделения. Поэтому преходящие терапевты не вникали ни в какие вопросы жизни отделения, формально смотрели больных и вели документацию. В роли же руководителя выступала старшая сестра отделения – рослая, крепко сбитая, с угадывающейся большой силой в конечностях. Медицинские сестры оккупировали ординаторскую. На полках шкафов вместо книг стали валяться расчески с застрявшими в них волосами, медицинские измятые, покрытые пылью шапочки, израсходованные тюбики с остатками помады. Долгое время за младшим медицинским персоналом не было никакого контроля. Процветала анархия и вольница. И вот, заведовать этим отделением поставили Даниила Ильича. Он умело начал проводить необходимые преобразования в отделении.
Сначала старшая, а затем и другие медсестры побежали из терапии как тараканы от дихлофоса.
Был набран новый персонал, восстановлена субординация. Появились врачи. Среди них оказался и Весловский, но он работал в отделении как врач-интерн. В этом же качестве включился в работу отделения и я. Дни шли своим чередом, приближая окончание интернатуры. Весловский совмещал приятное с полезным. Довольно длинный путь из дома на работу он преодолевал в виде кросса, облачаясь в спортивную форму. Но почему‐то всегда оказывался в больнице позже положенного времени. Сделав пробежку, он шел в больничный душ. Из душа – в пищеблок, брал там кашу с маслом, хлеб, приносил еду в ординаторскую, садился за стол и с большим аппетитом не спеша ел. К больным он подтягивался часам к двенадцати, нехотя, стараясь сделать обход за минимально короткое время. Для этого нужно было сократить осмотр каждого пациента. Он прикладывал фонендоскоп спереди в двух точках и в двух точках сзади. При такой аускультации его можно было даже не вставлять в уши. Эффект был бы тот же. Стало ясно: терапия – не конек Алексея.
Через несколько лет после того, как я покинул Луговое, до меня дошли слухи, что он устраивался работать на «скорую помощь», но проворовался и его уволили. Затем занялся какой‐то мелкой коммерцией и даже трудился в местной администрации, выдвигал свою кандидатуру в депутаты. Отсутствие политического чутья привело его в ряды не той партии, деятельность которой поощрялась, и в итоге он не прошел в депутаты, потерял место. Как сложилась его дальнейшая судьба, я не знаю.
Подходило постепенно лето. Здесь уже засобирался в дальнюю дорогу и Виткин. Несмотря на то что родители его жены жили в Луговом, именно она выступила инициатором переезда в Киев, где жила мать Виткина. Были упакованы вещи, книги. Я и еще трое врачей помогали загружать в грузовик разную утварь, которую в контейнере собирались доставить к месту назначения по железной дороге. Я стоял в кузове автомобиля, кряхтя принимал упакованную в мешки печатную продукцию и с большим трудом оттаскивал их в углы фургона.
Родители жены Даниила Ильича были латышами, волей судеб оказавшимися в Сибири, выглядели крестьянскими жителями. Мать, в платке, куртке, больших стоптанных сапогах, стояла в отдалении и молча наблюдала за происходящим.
Виткин на прощальной кружке пива жаловался: родственники жены сильно его недолюбливают. Когда при нас кто‐то из родни зашел в квартиру и через несколько минут ее покинул, Виткин, морща свой большой белый крючковатый нос, сказал: «Ну сейчас начнется. Увидели бутылку на столе. Им только дай повод…».
После отъезда Виткина мы с ним изредка обменивались короткими письмами. Он сообщал: устроился в крупный медицинский центр, начал заниматься исследованием сосудов. Живут в двухкомнатной квартире его матери, тесновато…
Прошло около года. Я вместе с письмом послал Виткину книгу в виде подарка. Но через месяц посылка вернулась обратно. Когда я распечатал ее, то увидел, что письма нет. А еще через полгода узнал, что Виткины уехали в Израиль. Инициатором нового переезда опять выступила его жена.
И Луговое, и его жители, и коллеги с течением времени стали приобретать для меня все более призрачный характер, их образы постепенно стали становиться нереальными. И только фотографии, сделанные мной в последние дни интернатуры, свидетельствуют: это был не сон, а самая настоящая реальность, которая просто растаяла как утренний туман над рекой времени. Меня ждали новые места.
Новое переселение
Постепенно ощущение этой перемены каким‐то образом проникло в нас, мы все проснулись от непонятного волнения и вышли на палубу.
«Моя семья и другие звери», Дж. Даррелл
Я ехал по делам в поезде метро. Услышал за спиной знакомый голос. Повернулся на него. Так и есть. Это был преподаватель акушерства: серые пытливые глаза, бледное морщинистое лицо. Одет он был в поношенного вида пальто. Его собеседницей была моложавая женщина с недовольной физиономией. Она возмущенно выговаривала: «Как такое можно вообще говорить?! Тем более студентам! Это уму непостижимо!». Акушер с готовностью поддакивал. Было видно, что предмет разговора его увлекал. Собеседница продолжала: «И самое главное, все сходит с рук! Ведь никто не может на него нажаловаться!».
– Но у него такие выходки были уже в студенческое время, – сказал акушер. – Я помню конференцию. Ну, одну из тех, студенческих. Он вышел с докладом, показал слайд – для того времени это была редкость. На нем что‐то похожее на клетку. Подробно рассказывал и показывал на детали изображения: где находятся митохондрии, где ядро… Все сидели слушали. А когда закончил доклад, то признался, что сфотографировал не клетку, а половину разрезанного огурца. Все были в шоке!
– И ничего?
– А что сделаешь? Сначала все удивились, потом начали смеяться…
Продолжая разговор, собеседники сошли с поезда. Я удивился, что они обсуждали Хвостова. Про самого акушера говорили как о высоком профессионале. На лекциях, а он их читал блестяще, время от времени патетически восклицал: «Акушерство – это не наука, это искусство!». Как я понял, его собеседница побывала в качестве контролера на лекции Хвостова. Судя по пылавшему в ней гневу, все не могла успокоиться. Да, Хвостов был склонен к едкому и циничному слову. Но лекции его студенты воспринимали на ура. Когда он заходил в лекционный зал после некоторого отсутствия, его встречали аплодисментами. Хвостов был доволен и с присущей ему скромностью говорил: «Вот как надо работать!».
Он начинал лекцию, деловито излагал материал. Студенты сосредоточенно писали. Писали и ждали. И вот наконец Хвостов обрывает изложение и говорит: «Да-а, в Ленинграде собачья погода… – Все вмиг оживляются. Представление начинается!
– Жить там невозможно! Я думал, что сдохну! Ветер, дождь со снегом, слякоть, холод…».
Он вернулся из командировки. Назидательно подчеркивал, оглядывая сидящих: «Когда нужно перемещаться с востока на запад, то для лучшей адаптации делать это нужно на поезде. Хорошо, чтобы под рукой был коньяк. А возвращаться – самолетом. Тогда не будет так заметна смена часовых поясов… Я побывал в одной лаборатории. Пригласили к столу. У меня глаз опытный: сразу заметил на нем мышиный помет. Инфекция! И когда мне предложили: «Рюмка чая или чашка коньку?», сразу согласился с последним. Уберечь себя от заражения». Все жадно слушали.
Показывая фотографии Крика и Уотсона, ученых, которые описали структуру ДНК, он подчеркивал, как ученые выглядели в начале и в конце своей карьеры. Особенно изменился Уотсон – обладатель в молодости роскошного чуба.
– Вот посмотрите, какая шевелюра! – говорил Хвостов. – А теперь взгляните, что от нее осталось, – он демонстрировал второй слайд.
На нас смотрел старый лысый мужчина. Хвостов делал заключение: «Вот что значит заниматься наукой!». Окинув взглядом студентов, продолжал: «Я не так давно читал лекцию в университете. Они не только успевали записывать лекцию, переброситься с соседом словом и задать вопрос, но некоторые умудрялись нарисовать на меня шарж. Очень похоже… А уровень студента мединститута на голову ниже. Если заставить студента университета играть в футбол и весь год отбивать мяч головой, то, да, тогда он по уровню интеллекта сравнится со студентом нашего вуза». Все оживлялись, не зная, как реагировать на такое унижение, но про себя соглашались с такой сентенцией.
Или давал советы умудренного жизненным опытом мужчины (сам он был женат, кажется, три или четыре раза): «Вот как узнать, что жена стала старой и ее пора менять? Нужно обратить внимание, как она видит вдаль. Если стала видеть лучше, чем муж, то все – пора менять!».
Побывав на первомайской демонстрации, он сразу обнаружил крамолу: «Смотрю и глазам не верю. На одном из лозунгов заглавная буква обращена в обратную сторону!». Хвостов, испытывая явное удовольствие от чувства собственного превосходства над толпой, в подробностях изображал увиденное на доске и делал заключение: «Степени деградации общества просто поражаешься!».
Как‐то на его лекцию пришел декан нашего факультета. Хвостов как обычно начал лекцию, не замечая гостя. Увлекшись, говорил о трансплантации: «Вот, например, балерина теряет ногу, – он рисует тонкую ногу, – и ей пришивают конечность от другого человека». – Хвостов к тонкой ноге пририсовывает большущую ногу с громадными пальцами, вызывая смех в зале. Но тут его взгляд упал на декана. Декан сидел с недовольным выражением лица. Хвостов на полуслове остановился. Чтобы отвлечь начальника от своей оплошности, сразу пошел в наступление: «А-а, хорошо, что присутствует декан. Хочу вам сказать: я недоволен, как ведет себя на этом потоке мужская половина, а на другом – женская!». И дальше лекция пошла без привычных шуток и рассказов. Хвостов, обращаясь к залу, говорил: «Из того, кто после института хорошо сядет сразу на теплое место, – никакого толку не будет! Ничего не добьется!».
Я вспоминал его слова, когда направлялся после интернатуры в Слепнево. И задавался вопросом: а будет ли из меня какой‐то толк?
Было лето. Солнце не сковывала броня стальных облаков, оно щедро делилось богатством своей животворящей энергии, заставляя все живое к концу дня просто увертываться в тень, прятаться по дающим призрачную прохладу уголкам от несколько излишнего напора преподнесения солнечных даров. Каждая проходившая по дороге машина тянула за собой длинный плотный шлейф из желтой пыли, медленно поднимавшийся почти до верхушек тополей, стоявших вдоль дороги как солдаты в шапках по стойке смирно в Букингемском дворце. Окутывая теплой волной встречных пешеходов, она прилипала к их разгоряченной коже, стушевывала цвета и без того неярких одеяний. Придорожная трава имела скорее коричневый цвет, а листья деревьев напоминали кожу слона после пылевой ванны.
Так, во всяком случае, мне казалось из кузова маленького грузовика, на деревянное сиденье которого я с болью приземлялся после очередного его взбрыкивания на подвернувшемся ухабе. Одновременно мне нужно было удерживать в кузове не только себя, но и холодильник, как пленник затянутый плотной материей и обвязанный толстыми веревками. Я перевозил его из города.
Две недели назад я встретился с представителем администрации больницы. Мне была выделена комната в общежитии. Я навел в ней минимальный порядок, разместил кое‐какие вещи и повесил на окна занавески. Сейчас, в это субботнее послеобеденное время, в далекой от моего родного дома гавани я готовился бросить якорь, коим представлялся холодильник. В городе пришлось нанять машину, чтобы довести его до железнодорожного вокзала, втащить в электричку, на станции назначения спешно выгрузить, перетащить к шоссе, вновь найти автомобиль, шофер которого согласился помочь с доставкой груза. Теперь предстоял последний этап: выгрузка и поднятие на четвертый этаж. И вот, когда из-за поворота показалось серое здание будущей моей обители, у меня возникло чувство, сходное с тем, которое испытывают игроки футбольной команды, ведущие матч со счетом 2:1 за две минуты до его окончания. Я вытер лоб платком – хлопоты переезда заканчивались, на всякий случай проверил наличие ключа от комнаты в кармане брюк. Услужливое воображение уже рисовало, как после легкого водворения моего громоздкого груза в комнату я изящно захлопываю дверь и на крыльях слетаю по лестницам. Мне нужно было успеть на обратную электричку, отходящую через час, – ведь к работе мне предстояло приступить еще только через неделю.
Во дворах домов беззаботно играли дети, мамаши прогуливались с малышами, везя их перед собой в колясках по покрытым скудной растительностью лужайкам, из открытых окон рядом стоящих зданий лился сиропчик из разухабисто-страдальческих куплетов новомодных песен.
Еще сидя в кузове автомобиля, я высматривал свои желтые шторы в ряду окон четвертого этажа. Но их не было! Как из разбитой чернильницы растекается фиолетовая жижа, так внутри меня стало расползаться чувство тревоги. Горечь предчувствия, во сто крат более сильная, чем настойка полыни, недвусмысленно свидетельствовала: что‐то произошло. В моей разгоряченной голове, как гномы из-под земли, появились вопросы, словно паяцы, толкающиеся и гримасничающие друг перед другом: неужели в комнату вселили кого‐то другого? А договоренность? Куда дели мои вещи? Показалось, что солнце зашло за тучу, стих гомон двора, а стекла многочисленных окон общежития зловеще посверкивали взглядами членов распределительной комиссии: дескать, а как вы хотели, молодой человек?! Учитесь преодолевать трудности, вот вам первое – ну те-ка!