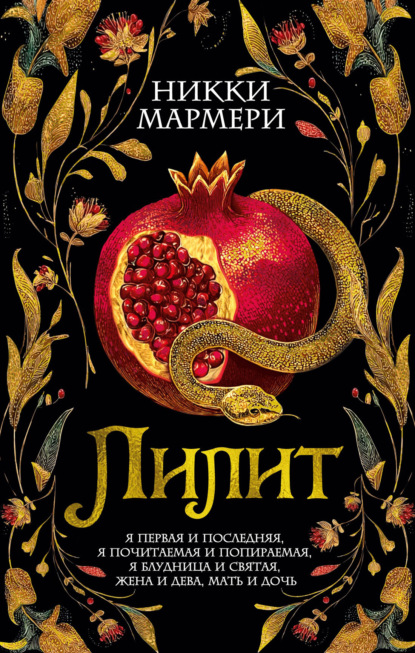Полная версия
Бог безвременья
– Très bien, Leo. C’est formidable [28].
Он настолько увлечен, что, кажется, даже не слышит меня. Я подхожу ближе.
– Переходи к следующему фрагменту, Лео. Не рисуй слишком долго в одном. Ты потеряешь перспективу.
Перспектива – слишком сложное слово для пятилетнего ребенка, хотя он скоро ему научится. Я объясняю другими словами:
– Ты потеряешь ощущение целостности. Не рисуй слишком долго в одном месте.
Он слегка кивает мне в ответ, а затем следует моему совету и переходит к ветвям наверху. Я отхожу от мольберта Лео.
– Не забывайте, дети, – говорю я классу, – передвигаться по холсту. Не работайте над одной и той же частью рисунка слишком долго, иначе он станет неровным, несбалансированным. Слишком много краски и деталей в одном месте и слишком мало в другом.
Томас серьезно и понимающе кивает мне в ответ. Его сестра рисует темно-зеленой краской стебли под ярко-желтыми бесформенными цветами. Халат весь в ярких отпечатках ее ладошек. Двое других малышей, Октавио и Софи, рисуют непонятных, разноцветных, многоногих существ. Одно из них, судя по усам, наверное, кошка. Октавио, не подозревая, что я за ним наблюдаю, оборачивается к Томасу, заносит кисть, готовясь раскрасить соседа. Широко раскрыв рот, он высовывает язык.
– Ай-ай-ай, – мягко укоряю я, и он поворачивается ко мне с тем же дурацким выражением лица – широко раскрытыми глазами и все еще высунутым языком.
– Держите руки и кисти при себе, s’il vous plait [29]. Мы рисуем только на холсте.
Октавио нарочито вдавливает щетинки кисти в холст и ухмыляется мне, и я с трудом удерживаюсь от смеха.
Рядом со мной Лео резко и хрипло кашляет.
– Как ты кашляешь, mon Dieu! Все в порядке, Лео? – спрашиваю я, легонько похлопывая его по сгорбившейся спине.
Лео не отвечает, продолжая кашлять. Когда приступ заканчивается, он выглядит болезненным и осоловелым. Он вытирает рот тыльной стороной рукава и возвращается к рисунку.
– Лео, – говорю я, присаживаясь рядом с ним на корточки, – твоя мама сказала, что ты сильно ударился головой.
Он поворачивается ко мне и кивает. Его большие темные глаза выглядят очень серьезными и усталыми.
– Как ты себя сегодня чувствуешь? Голова не болит?
Некоторое время он молчит, уставившись в потолок, будто прислушиваясь к ощущениям внутри черепа.
– Нет, – наконец говорит он, – не болит.
– Хорошо. Очень рада это слышать. Голова – это очень важно. Нужно быть с нею поаккуратнее. Скажешь мне, если у тебя что-то заболит? Даже если совсем чуть-чуть. Хорошо?
– Хорошо.
– Как это случилось, mon petit? [30]
– Ну, – медленно говорит он, – мы были на лестнице, наверху, а потом упали вниз. С самого верха. И…
– Мы? Кто-то еще упал с лестницы?
– Я упал, и Кэтрин тоже упала.
Когда Лео начал ходить в школу, я с удивлением обнаружила, что обычно он называет родителей по имени. Мне до сих пор каждый раз странно это слышать, и сама я не могу пересилить себя и в разговоре с ним называть их так же.
– Мы оба, – продолжает Лео, – только я ушиб голову, а Кэтрин – руку. Вот эти два пальца, – говорит он и сжимает два пальца, которые у нее были перевязаны бинтом. – И еще у нее синяк на ноге. Вот здесь.
– Вот как? Твоя мама повредила руку, когда упала с тобой с лестницы?
Он быстро кивает, затем нагибается, поднимает штанину и указывает на свою лодыжку.
– Вот здесь у нее синяк. А у меня тут. – Он показывает рукой место на спине. – А еще я ударился головой, и меня отвели к врачу.
Показав мне все это, Лео снова берется за кисть, опускает ее в маленькую чашку с водой рядом с палитрой и ополаскивает ее, отчего вода окрашивается в коричневый цвет.
– Как вы с мамой одновременно упали с лестницы? Это не так-то просто.
– Кэтрин держала меня на руках. Она… она несла меня. И они ругались, так что…
– Кто ругался?
– Кэтрин и Дэйв. А потом она упала с лестницы, и я тоже.
– Дэйв, твой отец?
Он вытирает кисть о тряпку и пожимает плечами, затем обмакивает кончик кисти в темно-зеленую краску на палитре и подносит к холсту.
– Наверное, – говорит он и снова пожимает плечами. – Наверное, да.
– Наверное? Мы говорим о твоем отце или о каком-то другом Дэйве?
Не опуская кисть, он поворачивается ко мне.
– Да, о нем, – серьезно кивает он. – О моем отце.
В замешательстве я на мгновенье теряю дар речи.
– Хорошо, значит, твои мама и папа злились друг на друга перед тем, как вы с мамой упали с лестницы? Почему ты решил, что они злились?
– Ну, они кричали, и лица у них были сердитые.
– Они дрались или толкались?
– Толкались. Дэйв пытался отобрать меня у Кэтрин, а она не отдавала.
– Лео, очень жаль, что это произошло и что ты ушибся. Наверное, тебе было страшно. Ты испугался? Оттого, что взрослые кричали, а потом ты упал с лестницы?
Он молчит и опускает взгляд, изучая пол.
– Я не хочу больше об этом говорить.
– Хорошо, – задумчиво отвечаю я. – Bien, мы больше не будем сейчас об этом говорить. Но если захочешь, мы поговорим об этом попозже или в другой раз.
Лео снова подносит кисть к холсту и продолжает рисовать, а я смотрю на него, но думаю только о его словах и о том, как они расходятся с тем, что сказала Кэтрин.
– Очень хорошая работа, Лео, – тихо говорю я. – Magnifique.
И что мне теперь делать?
Я задаю себе этот вопрос, поднимаясь по лестнице на чердак. Наступило время сна, теперь я наконец могу утолить голод, необъяснимым образом терзающий меня с самого утра, и хорошенько подумать о том, что сказал Лео.
Он серьезно ушибся, и, судя по его рассказу, это случилось из-за того, что его родители поругались. Неужели его мать лжет? Ведь она сказала, что споткнулась на ровном месте и неудачно упала. Никакой связи с падением Лео.
Или это Лео говорит неправду? Но по размышлении это кажется маловероятным. Всплывшие в его рассказе противоречия выглядели слишком естественно для того, чтобы быть неправдой, да и зачем ему лгать? Может, он ошибся? Наверное, испугавшись, он мог принять напряженный разговор за драку. Но никакому ребенку, если он, конечно, не подвержен галлюцинациям, не может почудиться, что он упал с лестницы вместе с мамой, если на самом деле он упал один.
Если принять слова Лео за правду, по крайней мере в самых важных моментах, значит, солгала Кэтрин. Почему? Зачем ей отрицать, что она тоже упала и ушиблась? Это можно объяснить только тем, что она не хотела рассказывать о семейной ссоре, возможно, даже с применением физического насилия, и придумала историю о детской неуклюжести. Она хотела оградить кого-то от подозрений, ответственности, последствий.
Я рассеянно поднимаю дверь и забираюсь на чердак, затем опускаю дверь и устраиваюсь на полу, рассеянно поглаживая кошек, лениво расхаживающих вокруг меня.
Полная подозрений, которых Кэтрин хотела избежать, я вспоминаю все неприятные подробности встречи с Дэйвом Хардмэном: как он грубо возражал жене, как сидел в кресле с равнодушным, нетерпеливым и угрюмым видом. По моему опыту, самые опасные мужчины почти всегда угрюмы. Почему женщины защищают таких мужчин? Почему они так стараются оградить их от последствий?
Я уверена, что могла бы найти ответы на эти вопросы, но мне это не интересно. Я злюсь. Злюсь из-за этой скандальной ситуации, злюсь на себя из-за того, что мне приходится в ней участвовать. Ведь еще при первой встрече с Хардмэнами я безошибочно почувствовала, что у них в семье проблемы, но талант их сына заставил меня пренебречь интуицией. И что теперь? Домашние проблемы – жестокое обращение, недостаток внимания, опасные для детей ситуации – их надо регистрировать, писать отчеты, давать показания, потом последуют проверки, так называемые «соответствующие органы» начнут расследование. И что сделают эти органы? Заберут Лео из дома? Поместят в приют? Разрушат все, над чем я работала, не решив проблемы?
Нет, обращаться в органы не вариант. Лучше следить за развитием событий, выудить из Лео всю возможную информацию, попытаться поговорить с Кэтрин. Только она может решить эту проблему; от моего вмешательства никому лучше не станет.
IX
Наконец корабль бросил якорь в гавани Ливерпуля, и оставшиеся в живых и заплатившие за проезд пассажиры сошли на берег. Те, кто еще не заплатил за себя или за умерших в море членов семьи, должны были оставаться на борту корабля, пока не погасят долг. Еще их могли выкупить богатые помещики, чьи управляющие толпились на пристани, чтобы выбрать самых сильных и способных для домашней прислуги.
Кричащие чайки низко пролетали над нашими головами в сыром и плотном утреннем тумане, пока мы с Мерси, опершись о борт корабля, тревожно выискивали в толпе на набережной ее отца, который должен был встретить их в Англии, однако я понятия не имела, как он выглядит, а Мерси никого не узнавала.
Наконец, пришло время сходить на берег, но Мерси, шедшую вслед за мной, не пустили на трап.
Капитан ткнул толстым пальцем в бухгалтерскую книгу:
– Оплачен проезд только одного взрослого. То есть твоей мамы.
При виде испуганного лица девочки он смягчил тон.
– Не волнуйся, детка. Ты здоровая, крепкая девочка. В худшем случае будешь помогать на кухне в одном из здешних богатых домов.
– Но мой папа приедет за мной. Как он меня найдет?
– Оставим ему сообщение на пристани. Будет спрашивать о вас и узнает. Но он должен будет принести деньги. Никто не отдаст за просто так то, что куплено и оплачено.
– А как же Джонас? Что будет с моим братом? Мне разрешат взять его с собой?
– Нет, вряд ли. Кому нужен ребенок, от него одни только хлопоты.
Я видела, как лицо Мерси залилось краской ужаса, а на глазах выступили слезы.
– Что с ним будет? Куда он денется?
Капитан отвел взгляд.
– Отправится в приют, куда же еще.
Я сбежала по трапу на пристань, где Агостон нанимал карету и на брусчатой мостовой стоял мой сундук. Распахнув крышку, я принялась в нем рыться и раскопала помятый бархатный брауншвейгский костюм и перламутровые четки, которые бабушка вложила мне в руки на похоронах. Я вернулась туда, где сидел со своей бухгалтерской книгой капитан и, едва не падая в обморок и дрожа, стояла Мерси, бросила четки на бухгалтерскую книгу.
– Держите!
Глаза капитана вспыхнули при виде кремовых жемчужин, нанизанных на нитки.
– Этого достаточно, чтобы заплатить за них, – сказала я. – За обоих, даже в десять раз больше. Отпустите их.
Капитан оценивающе ощупал драгоценности, а затем кивнул Мерси, даже не подняв головы. Я схватила Мерси, остановив ее.
– Здесь больше стоимости их проезда. Отдайте то, что ей причитается.
Капитан, возмущенный моей дерзостью, посмотрел на меня, примериваясь. Я почувствовала, как напрягаются и сжимаются его мышцы от желания ударить меня, но он оглянулся и увидел ожидающего у трапа Агостона.
– Аня, – позвал Агостон своим низким голосом. – Idemo!
Капитан откинул крышку ящика с деньгами и, не считая, бросил горсть медяков в сложенные ковшиком ладошки Мерси, она не смогла удержать всю пригоршню, и несколько монет со звоном упало на землю. Мы наклонились подобрать их.
– Вон с моего корабля, – буркнул капитан.
На пристани мы расстались с Мерси. Восьмилетняя девочка, за которую заплатили и оставили одну, осталась сидеть на мокрых досках с младшим братом на коленях, в ожидании отца, и непонятно, пришел он за ней или нет.
Много лет я верила в то, что, конечно же, любимый папочка пришел и забрал их с братом, они благополучно добрались до дома и счастливо жили вместе. Теперь я не верю в счастливый конец. Теперь я считаю, что им с братом пришлось долго мучиться и страдать, а потом голодная вселенная, невзирая на крики, поглотила их живьем. Ибо так устроен мир, а мне больше не хочется прикрывать его жестокость красивой ложью.
День за днем мы тряслись в двуколках, плыли на паромах по неспокойной воде, пока я не свыклась с мыслью, что нет ничего кроме бесконечной дороги, по которой мы едем и днем, и ночью. Темно-зеленые леса поредели, превратившись в широкие болотистые пустоши, которые затем в свою очередь уступили место скалистым утесам. Деревни проносились мимо и исчезали позади. Менялись экипажи, а с ними и извозчики, таверны и даже языки.
Тогда я понятия не имела, где нахожусь и куда мы едем, и до сих пор плохо представляю наш маршрут, и не могу с точностью назвать конечный пункт нашего путешествия. Могу только сказать, что мы ехали через Европу с запада на восток и оказались где-то рядом с Карпатами, возвышающимися на непостоянных границах Австрийской империи, Османской империи и валахских земель, примерно на территории современной восточной Сербии, западной Румынии или северной Болгарии.
Языковой барьер не позволял получить от Агостона ответы на сотни вопросов, которые мне хотелось задать, но я стала доверять ему так же, как доверяла своему деду. Я жила только этой верой и памятью о словах дедушки «да, да, я приеду за тобой», больше моему сознанию было не за что зацепиться, и я совершенно не представляла, куда мы едем.
Мы с Агостоном ели не чаще трех раз в неделю. Когда наступало время, Агостон знаками приказывал извозчику остановиться. Слезая с кареты, он отрывал от корней пучок утесника и скармливал его лошадям, а затем уходил в лес с охотничьим ружьем. Один за другим раздавались выстрелы, птицы поднимались в воздух, а потом Агостон звал меня, и я бежала к деревьям. Он ждал меня с окровавленным животным, которое загнал сам, а второе, застреленное, приносил к карете в качестве оправдания. Я пила кровь полевок, барсуков, лисиц, даже оленей и привыкла, хотя всегда с некоторой грустью, ощущать теплый, мягкий мех существа, испускающего последний вздох под моими зубами.
Когда мы с Агостоном, наконец, подходили по высокой траве к экипажу, возница с тревогой всматривался в дорогу впереди и позади. На дорогах беспечных путников подстерегали не только разбойники, но и всякая нечисть: духи, демоны и проклятые злодеи, не находящие покоя и после смерти.
Чем глубже мы продвигались на восток, тем больше амулетов и талисманов украшало повозки: распятия, пучки сушеных трав, мешочки с побрякивающими зубами и обрезками ногтей странствующих святых.
Иногда на вершинах голых холмов виднелись небольшие дощатые строения, всякий раз, проезжая мимо этих призрачных лачуг, возница крестился и гнал лошадей. Позже я узнала, что это дома мертвых, где находили временный приют души умерших, готовясь к переходу в загробный мир теней. Такие пережитки язычества встречались повсюду, хотя христианство и было официальной религией, но вековые языческие верования и обычаи так и не удалось полностью искоренить. Они странным образом переплетались с христианской традицией или прорастали сквозь нее, как сорняки пробиваются по краям и через трещины в скале.
Наконец не только слова, но и буквы на вывесках стали незнакомыми, а речь Агостона вдруг стали понимать окружающие. Оказалось, что Агостон любит поболтать, пошутить и поспорить с трактирщиками и торговцами, которые не только говорили на его языке, но и выглядели как он. Крупные мужчины с выпяченной грудью, с темными густыми бородами, как у Агостона, и темными густыми волосами до плеч. Агостон стал больше разговаривать даже со мной, но мне было не разобрать эту непостижимую тарабарщину, крутившуюся вокруг одного постоянно повторявшегося слова: Пироска.
– Пироска? – неуверенно повторила я.
– Да, – сказал он, кивая. – Пироска.
– Что такое Пироска?
Он только снова кивнул.
– Пироска.
Последнее село на нашем пути было очень бедным, оно ютилось у стен огромного монастыря с причудливыми башенками и круглыми, заостренными вверху, как луковицы, маковками церквей, каких я никогда не видела прежде. Уже много лет спустя я узнала этот стиль в православных церквях.
Здесь Агостон взял повозку и сам сел на место возницы, и целый день то сам толкал ее, то уговаривал непослушных лошадей протискиваться сквозь почти непроходимый дремучий лес. Наконец мы выехали на крохотную круглую полянку, на краю которой стоял домик из замшелых бревен с соломенной кровлей. Оставшуюся часть полянки занимало небольшое пастбище, где лохматый кремовый пони со спадающей на глаза челкой жевал траву, корова с теленком пили воду из пруда, а на траве лежали, свернувшись калачиками, многочисленные овцы.
Агостон вытащил мой сундук из кареты и внес в дом, но я не пошла за ним, а осталась сидеть в повозке, разглядывая дом, пастбище, темный густой лес вокруг и высокие скалистые вершины вдали, стараясь понять, где оказалась и зачем.
На соломенной крыше лежали связки сушеных трав и цветов. С карнизов свисали колокольчики и камни, обмотанные веревкой. На потемневшей древесине стен и дверей проступали какие-то символы. Их было толком не рассмотреть издалека, поэтому я вылезла из повозки и медленно пошла к дому. Привстав, я коснулась рукой ржавых металлических колокольчиков, висевших достаточно низко, и всмотрелась в символы на стене – переплетенные линии, ромбы и треугольники. Некоторые были вырезаны, другие раскрашены или протравлены. Ни один из них не был мне знаком.
Услышав наверху шорох, я резко вскинула голову и едва успела заметить глаз, рассматривающий меня сквозь щель в балках крыши, который тут же исчез.
В дверях появился Агостон и поманил меня за собой. На этот раз я пошла следом – мне было страшно и хотелось расспросить его обо всем, но никакой возможности задать вопросы или понять ответы у меня не было. Дом оказался темным и маленьким: всего лишь одна комната, разделенная несколькими простыми деревянными перегородками, и чердак над нею.
В воздухе висел странный кисло-сладкий запах, и когда мои глаза привыкли к темноте после яркого солнечного света снаружи, я увидела чайник, висящий над слабым огнем тлеющих углей, откуда, видимо, тот и исходил. Перед ним стояла сгорбленная старуха. Она помешала содержимое чайника и повернулась к нам.
– Пироска, – сказал Агостон и почтительно протянул женщине руку.
Женщина нежно улыбнулась и одной скрюченной рукой ласково потрепала руку Агостона. Ее лицо, казалось, состояло из тысячи морщинок, волосы были белы, как хлопок, но даже при тусклом свете лицо, глаза и даже кожа излучали необыкновенное сияние. Казалось, что старость только видимость, что она молода и лучезарно прекрасна, и как только спадет заклятие, произойдет чудесное преображение и она вновь предстанет во всем блеске своей молодости. Я отчетливо помню, как от света и тепла ее улыбки почувствовала себя в покое и безопасности. Ничего подобного я не ощущала никогда раньше.
На столе стояли пять чашек и небольшой деревянный бочонок. Пироска откупорила бочонок и налила из него во все чашки темный пенистый напиток. От напитка пахло так же, как и в комнате, и когда я отпила глоток, он поразил меня холодком и кисло-сладким привкусом. Все было таким чужим и непонятным, что меня вдруг охватила тягостная тоска и пронзил мучительный страх. Что это за место? Кто эта женщина? Почему я здесь, и сколько мне придется тут пробыть, пока меня не заберет дедушка? Эти вопросы жгли меня изнутри, тяжелым тупым камнем лежали на сердце, острой бритвой резали изнутри. Я сидела, задыхаясь и чуть не рыдая.
Пироска сидела на стуле рядом со мной. Она даже не смотрела на меня, а я не проронила ни звука, но она повернулась ко мне так внезапно, как будто я закричала, и посмотрела мне в глаза. Ее взгляд был полон бесконечного сострадания и нежности, и, казалось, он силой вытягивает из моих глаз слезы. Все еще удерживая мой взгляд, она потянулась ко мне своей грубой рукой, нежно приложила палец к моей щеке и подцепила его кончиком одну из слезинок.
Склонив голову к влажному от слез пальцу, она внимательно рассмотрела его, а потом поднесла палец к уху, как бы прислушиваясь, и несколько раз понюхала его своим сморщенным носом. Наконец, высунула язык и аккуратно лизнула, пробуя на вкус. Когда она повернулась ко мне, в ее собственных глазах застыли слезы.
– О, moja ljubav, – прошептала она. – О, moja ljubav. Moja ljubav.
Так иногда обращался ко мне дедушка. Пироска снова протянула иссохшую скрюченную руку и нежно погладила меня по затылку, и вновь ко мне вернулось ощущение полного покоя, которое я впервые почувствовала при взгляде на нее.
– Вано, – сказала она, мягко кивнув в сторону двери, затем так же мягко кивнула в сторону чердака над нами. – Эру, – сказала она.
Я не понимала значения этих слов, но через мгновение в дверях избушки появилась фигура.
– Вано, – повторила она, закрыв глаза и улыбнувшись.
Сверху снова послышался шорох, и с чердака над деревянной лестницей свесилась темноволосая голова.
– Эру, – снова сказала Пироска.
И тут с двух разных сторон, с чердака и от двери, к столу подошел один и тот же мальчик. Тоненький высокий смуглый мальчик. Самый красивый мальчик в мире.
X
Мы на время оставляем натюрморт с бонсаем, чтобы заняться созданием офренды. Встречи с родителями я стараюсь обставить так, чтобы потрясти и ослепить их, а самой не страдать от излишнего внимания.
Начнем с того, что я не очень общительна, и мне особенно не по себе, когда в школе много взрослых. Я очень хороший учитель, и это очень хорошая школа, но мне приходится постоянно притворяться, и в моей школе, как на сцене, все продумано до мелочей.
Мне не нравится никого вводить в заблуждение, но у меня почти нет выбора. Либо я живу честно в полном одиночестве и схожу с ума, либо я живу в обществе и обманываю. Выбор сделан, но мне не хочется, чтобы ко мне слишком пристально присматривались.
Я зову детей, чтобы рассказать им о наших планах. Лео первым садится на ковер. Тихо примостившись рядом с моими коленями, скрестив ноги, он смотрит на меня и спрашивает:
– Когда мы продолжим натюрморт?
Он не любит оставлять свои картины незаконченными.
– Завтра, mon artiste, demain [31], – говорю я, нежно ероша его растрепанные темные волосы.
Затем, когда все дети собираются на ковре, я обращаюсь к ним:
– Если вы помните, о чем я говорила вчера, цель офренды – вспомнить и почтить память наших умерших близких. Для этого на офренду обычно вешают фотографию или рисунок с изображением человека, но можно добавить любой предмет, который напоминает нам о нем: ожерелье или шляпу, любимую еду, футбольный мяч, если он любил играть в футбол. Понятно?
– Моя бабушка умерла, – говорит Томас. – Она любила смотреть по телевизору, как играют «Джайентс», так что я бы положил футбольный мяч, а может, и телевизионный пульт!
– Да-да, – запинаюсь я, сбитая с толку своеобразием американской культуры, что случается со мной нередко. – Конечно. Отлично.
– Если бы я был мертвым, – сияя, вторит ему Октавио, – я бы хотел себе пульт и настоящий телевизор! Чтобы в космосе смотреть Опасного Мышонка!
– Потрясающее предложение, Октавио, но это уже из области эсхатологии. Кажется, вы все уже уловили общий смысл. Кроме того, что напоминает нам о наших близких, офренду также украшают цветами, в основном бархатцами, и свечами. А еще мы положим хлеб, который называется пан дэ муэртэ, – вы приготовите его вместе с Марни – и сахарные черепа. Как их еще называют, Октавио?
– Калаверас! – восклицает Октавио, ликующе вскидывая вверх руку.
– Сегодня мы будем делать «папель пикадо», резную бумагу, которой часто украшают офренды.
Я показываю им фото из журнала «Нэшнл Джиографик».
– Видите цветные флаги с вырезанными на них крошечными фигурками? А вот здесь резная бумага больше похожа на драпировочную ткань. «Папель пикадо» вырезается так же, как зимой бумажные снежинки. Кто вырезал снежинки из бумаги, поднимите руку?
Все дети поднимают руки.
Взяв папиросную бумагу и ножницы, я быстро показываю, что нужно делать, а затем говорю детям, чтобы они садились за столы и сами попробовали что-нибудь вырезать. Несколько минут, пока дети занимают свои места, проходит в шумной возне и суете, затем, рассевшись, они спорят из-за материалов, но в конце концов принимаются за работу, лишь изредка поднимая руки, чтобы задать вопрос или попросить помочь. Когда наступила тишина, дети вошли в рабочий ритм и сосредоточились, я беру стопку листов с заданием.
– Mes enfants, я даю вам на дом задание. Пусть родители вам помогут: нужно выбрать, чью память вы хотите почтить в классе, и ответить на несколько вопросов об этом человеке. Когда он родился? Когда умер? Кем вам приходится? Что любил? Какие предметы вы можете принести, чтобы рассказать о нем? Постарайтесь ответить на все вопросы, хотя это может показаться вам сложным, особенно если этот человек умер до вашего рождения.
Мне предстоит многое сделать, чтобы подготовиться ко дню открытых дверей и празднованию Дня всех святых. На утро я запланировала экскурсию, чтобы у детей было меньше возможности устроить в школе беспорядок до прихода родителей. Мы отправимся на историческое кладбище в Порт-Честере и украсим могилы цветами и свечами в настоящем французском стиле.