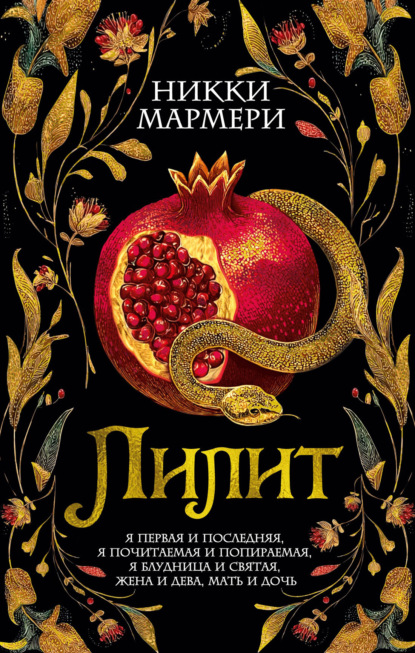Полная версия
Бог безвременья
Проходившие мимо люди с любопытством поглядывали на меня: девочка в синем бархатном брауншвейгском костюме, стоившем не меньше содержимого всех их сундуков, сидела одна на жесткой койке для пассажиров самого низшего класса.
– Господи Иисусе, что ж ты за птица? – воскликнула женщина, усаживая на койку рядом со мной девочку, а ей на колени румяного малыша, едва начинающего ходить, в шапочке, защищающей от ударов при падении. – Ты, наверное, потерялась? Тут не очень подходящее место для такой прекрасной юной леди.
Я молчала. Младенец потянулся заслюнявленным пальцем к бахроме на моем локте. Мать ахнула и легонько стукнула ребенка по пальцу.
– Мерси! Этот бархат раза в три дороже платы за наш проезд. Не давай Джонасу трогать его пальцем, а то, причалив к берегу, мы застрянем на этом корабле еще на месяц.
Мерси, девочка младше меня года на два, пересадила ребенка на другое бедро.
– Простите, мисс, – пробормотала она.
– Ничего страшного, – сказала я. – Пусть трогает, мне все равно.
Женщина обратилась к дочери, как будто та возражала ей, а не я.
– Ее маме и папе, скорее всего, не все равно, так что ты, пожалуйста, следи внимательно.
– Мои мать и отец умерли, – ответила я. – Брат тоже. И сестра. Все умерли, некому быть против, кроме меня, а мне все равно.
Мать, деловито раскладывавшая вещи на койке, на мгновенье замерла и повернулась ко мне. Посмотрев на меня долгим встревоженным взглядом, она сжала губы и отвернулась.
Северная Атлантика – безумное место. Стихия беснуется здесь как завывающее, озлобленное, холодное чудовище. Легко представить себе, как хищный кракен поднимается из темных глубин океана и обхватывает корабль чувствительными, жадными щупальцами. Хотя к чему, пересекая морскую пучину, воображать еще какие-то ужасы?
На нижней палубе было ужасно тесно, сыро и холодно. Пассажирам выдавали овсянку, муку, рис, печенье и чай, но всем приходилось готовить на одном камбузе, где почти сразу вспыхивали драки. Затем налетел шторм, и никто больше не мог готовить горячую пищу. На палубе было не удержаться на ногах. Корабль то подбрасывало вверх на волну, как на гору, то с бешеной яростью швыряло вниз. Жалобно голосили младенцы, плакали дети постарше. Когда людей тошнило, им хватало сил только на то, чтобы свесить голову с коек. Весь пол нижней палубы был в блевотине, которой питались крысы, воспользовавшиеся удобным случаем, они без стеснения скреблись по всем углам.
Я лежала на спине на одной из нижних коек. До меня долетали брызги льющейся на палубу рвоты, а до крыс можно было дотянуться рукой. Мерси, лежавшая на койке сверху, смотрела на меня широко раскрытыми глазами и дрожала. Рядом с нею мать укачивала младшего брата, безуспешно пытаясь успокоить плачущего ребенка.
Дедушка сказал, что я никогда не умру. Так ли это? И что будет, если корабль вдруг разобьется вдребезги? Я представила, как мы с Мерси, ее мать и брат уходим на дно все вместе в ледяной синеве океана. Вокруг нас медленно проплывают корабельные обломки, отчаянно брыкаются тонущие лошади. Они все умрут, а я буду смотреть на них? Больно ли это – находиться в воде и не дышать, не умирая? Мне представлялось в воображении, как из темных глубин поднимается кракен и с любопытством ковыряется щупальцами с присосками в остатках кораблекрушения. Я лежала на своей койке, не шевелясь. Меня не трясло, как Мерси, но я думала, что боюсь больше нее, что предпочла бы умереть, только бы не остаться в море с кракеном и целым кораблем мертвецов.
Через три дня первый шторм, наконец, стих, и мы, пассажиры, с облегчением поднялись на верхнюю палубу погреться на солнце, а также спустить два завернутых в саван тела за борт. Одно из них принадлежало беременной женщине, у которой во время шторма начались роды – она так и не смогла разрешиться от бремени. Ее муж стоял в стороне с каменным лицом, но слишком сильно качался, хотя корабль двигался плавно. Он был пьяницей, и когда он оступился, упал и так и остался лежать, остальные пассажиры понимающе переглянулись. Другое тело принадлежало маленькому ребенку, который, как сказали, захлебнулся собственной рвотой во сне. Священника на борту не было, поэтому капитан снял шляпу с головы и без всякого сочувствия произнес короткую траурную речь.
– Дай им, Боже, отдохнуть от трудов этого мира и найти покой в мире грядущем.
– Нельзя так, – пробормотала, перекрестившись, женщина рядом со мной. – Не по-христиански так хоронить. В море покоя не найти.
Я ни разу не видела Агостона с тех пор, как он захлопнул дверь каюты перед моим носом, но в ночь после того, как стихла буря, проснулась и увидела зияющую черноту на месте закрытой двери. Во время шторма пассажирам удавалось подремать только урывками, и теперь они крепко спали, наверстывая упущенное. Никогда на нижней палубе не было так спокойно, как сейчас – никаких звуков не было слышно, кроме тихого согласного посапывания, храпения и фырканья. На море, когда луна скрыта облаками, темнота непрогляднее, чем где-либо еще, но мое зрение изменилось вместе со всем остальным, и поэтому я увидела Агостона. Двигаясь, как крупный хищный зверь, он медленно пробирался между койками, наклоняясь то к одной, то к другой спящей бесформенной тени, словно желая ей доброй ночи долгим поцелуем.
Я никогда не пила человеческую кровь, мне даже никогда не доводилось видеть, как это происходит. Во время шторма в отчаянии я схватила пробегавшую мимо крысу. Опираясь на локти и колени, я отползла к задней части своей койки и повернулась к стене, чтобы меня не увидели. Борясь с тошнотой, я крепко зажала в кулаке извивающееся и царапающееся жирное животное, затем вонзила в него зубы и услышала его визг. Я еще не научилась деликатно обходиться с пищей.
Фигура все приближалась и приближалась, проходя между рядами, и мне казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из моей груди. Я забралась на койку к Мерси и улеглась между нею, ее матерью и братом, которые крепко спали. Я не знала, что буду делать, знала только то, что не позволю Агостону прикоснуться к ним.
Он подошел ближе, двигаясь совершенно бесшумно, а я, казалось, слышала, как в моем теле бешено пульсируют кровь и адреналин. Что он сделает? Вступит со мной в драку? Укусит меня? А потом, когда моя кровь будет стекать по его подбородку, рассмеется, привычно ухмыляясь?
Его темный силуэт теперь маячил в двух шагах от меня, и я с ужасом вспомнила, какой он огромный, какие у него мускулистые накачанные руки и с какой легкостью он поднимал сундук, как будто тот был не тяжелее солнечного зонтика.
Капля пота скатилась с моего подбородка. Я едва могла дышать. И вот фигура оказалась передо мной и замерла в неподвижности. Мне показалось, что это длится целую вечность. Затем, наконец, Агостон медленно подался вперед к матери Мерси, лежавшей на спине с уютно устроившимся на сгибе ее локтя спящим младенцем. Я сжала руку в кулак и, когда голова Агостона приблизилась к койке, нависнув над женщиной, ударила.
Костяшки моих пальцев попали в кость его острой надбровной дуги. Он вдруг отпрянул, приложив руку к голове, мать Мерси засопела, а я в ужасе ждала возмездия. Через долю секунды он снова ринулся вперед. Я сдавленно вскрикнула от испуга и почувствовала, как сильная рука сжала мое запястье. Меня выдернуло из койки, и я стала падать, размахивая в воздухе руками и ногами. Но не успела я стукнуться головой о палубу, как меня поймали за талию и грубо поставили на ноги.
Он схватил меня за плечи и развернул к себе. В темноте я едва различила лицо Агостона, но, к моему удивлению, он не злился и даже не привычно ухмылялся, а по-настоящему улыбался. Он взял мою руку, согнул ее в локте и подтолкнул назад. Я сопротивлялась, сбитая с толку и испуганная, он встряхнул мою руку, высвободив ее, затем попытался сделать то же самое снова. Я не понимала, но перестала сопротивляться. Он одобрительно кивнул, взял меня за руку и сжал мои пальцы в кулак, а затем отвел мою руку назад, пока она не уперлась мне сбоку в ребро. Затем он потянул ее вперед, управляя моим движением, ударив себя ею прямо в середину груди. Он кивнул, снова оттолкнул мою руку назад и снова потянул ее вперед по прямой линии к центру груди. Видимо, я ударила Агостона по голове недостаточно сильно, и теперь он учил меня, как надо.
Он отпустил мою руку и коснулся пальцами того же места ниже на животе. Где-то рядом кто-то всхрапнул и перевернулся во сне, и я оглянулась в ту сторону. Агостон снова коснулся себя и нетерпеливо пробормотал что-то на своем языке. В нерешительности я медленно, как и он, выставила вперед кулак. Погрозив мне пальцем, он с силой ударил себя по груди и затем махнул рукой, не предлагая, а, скорее, требуя ударить его изо всех сил.
В моем сознании рассеялся туман, мысли исчезли, и я увидела четыре темных надгробия моей семьи, выстроившихся в ряд на белом снегу. Ощутила, как руки моих соседей стискивают мои руки, обхватывают меня за талию, крепко держат мой лоб и подбородок, а священник кладет пепел в мой насильно открытый рот. Увидела дедушку с невозмутимым выражением лица, отправляющего меня в неизвестность, и почувствовала гнев. Я прищурила глаза, сосредоточившись на точке в центре груди Агостона. Стиснув зубы, я выдохнула и ударила его всем своим существом.
Как будто ударная волна сотрясла мое тело до мозга костей, и тело Агостона тоже, хотя он держался неколебимо, как стена. Как волны бьются о скалистый берег острова Манурзинг, как ветер обрушивается на дома и вырывает деревья из земли. Вот еще одна глубокая и непостижимая произошедшая во мне перемена: у меня появилась сила, которой не могло быть у маленькой девочки с худенькими ручонками.
Агостон помедлил минуту и удовлетворенно кивнул, его радостная улыбка стала еще шире. Он погладил меня по голове, развернулся и вошел в свою каюту, закрыв за собой дверь.
Я стояла некоторое время в темноте, ошеломленная и подавленная ощущением собственной силы.
VI
Мы сидим при свечах, и Вано своим певучим голосом рассказывает мне о Мокоши Мокрой. Большие карие глаза смотрят то на меня, то на чучело на столе, а смуглые руки возятся с тканью. Вано старше меня и говорит с такой взрослой серьезностью и торжественностью, что кажется еще старше, хотя и выглядит совсем юным и хрупким в своей огромной хламиде.
Где-то на заднем плане в тени Пироска хлопочет со своими травами и настойками.
Прошло столько лет, но во сне я испытываю в присутствии Вано те же чувства, что и в детстве – трепет и тоску, которой нет названия. Я хочу ощутить жидкий коричневый цвет его глаз у себя во рту. Я хочу уткнуться лицом в бархат его голоса и окунуться в теплую охру его кожи, пересчитать его красоту, как тяжелые монеты – дзинь, дзинь, дзинь.
Пожалуйста, Вано, продолжай. Расскажи мне все. Расскажи обо мне, о мире и обо всех видимых твоему взору угодливых божествах, которые прячутся в рощах, скрываются среди высоких скал, сверкают в небесах.
– Мокошь, мать сыра земля, мать Моры, – говорит Вано и смотрит на чучело, лежащее между нами, – тело плотно набито кукурузной шелухой, руки сплетены из соломы. Он берет ветку ивы из кучи на столе рядом с ним.
– Мора оживает и умирает, оживает и умирает, вновь оживает и вновь умирает. Жертвенное дитя смерти и возрождения, ось, вокруг которой вращаются времена года и человеческие жизни. Мы обвязываем ее ветвями ивы, бородой темного возлюбленного Мокоши, Велеса.
Свет мерцающих свечей обгрызает по краям его темный силуэт. В очаге пылает голодный огонь. Он крепко затягивает ветки ивы на груди куклы Моры и кладет мне в ладонь прутик, чтобы я тоже завязала узел, и мгновение я наслаждаюсь теплом его руки. Наконец, на шею Моры надето ожерелье из яичной скорлупы, Вано дает ее мне в руки и ведет меня к очагу.
– Времена года – это двери. Времена года – это окна, которые открываются и закрываются одно за другим, – говорит Вано. – У весны, зимы, осени и лета свое собственное неповторимое предназначение. То, что происходит весной, не может произойти осенью. Зимой все умирает, уменьшается, прячется, забывается. Зимой мы освобождаемся от всего, что у нас есть, и готовимся к чему-то новому. Таков и ход времен. Всему свое время. То, что должно произойти завтра, никогда не случится сегодня. И наоборот.
Пока он говорит, мы вместе медленно опускаем соломенное тело в очаг, и травинки на руке загораются и скручиваются в пламени.
– Мы с благодарностью принимаем время разрушения, хаоса, смерти, – говорит Вано, когда огонь охватывает толстые стебли куклы. – Мы не сопротивляемся. Мы подчиняемся ему, потому что так полагается в это время года.
Затем я отпускаю пылающую фигуру, но Вано крепко держится за нее. И осторожно ступает с нею в огонь.
– Нет, – кричу я в смятении, удерживая его. – Нет, Вано!
Он смотрит на меня безмятежным взглядом, сгорая в белом сердце огня.
– Вано! Нет! Остановись!
– У каждого из нас свой конец, Аня, свое безвременье, – спокойно говорит он, его тело горит и исчезает в огне. – Они наступают в назначенное время. Мы можем смириться, мы можем бороться, но ничего не поделать. Их приносит он. Ты бежишь от него, Аня, но Чернобог, бог пепла, бог безвременья, видит и чует все. Его нельзя сбить со следа.
При имени Чернобога я ощущаю прилив страха. Я отворачиваюсь от скачущего огня и страшного, знакомого образа и запаха гари, и просыпаюсь от этого физического усилия.
Я вскакиваю, задыхаясь, все еще объятая горем и ужасом. Я не сразу понимаю, что нахожусь в своей спальне в Порт-Честере, а не в бревенчатой хижине с соломенной крышей в лесу где-то на другом конце света, что вокруг меня не пылает пламя и не кричат гибнущие в нем люди.
В течение многих лет меня мучили страшные сны, мой разум плодил по ночам кошмар за кошмаром, но с некоторых пор я стала проваливаться в сон как в пустоту, что меня несказанно радовало. Этот сон, такой отчетливый, эмоциональный и необычный, потряс меня. Он разбередил старые раны, и я пребываю в полной растерянности. Я уже давно не вспоминала Вано и нашу маленькую странную семью – из меня, Вано, Эру и Пироски, – и вот он тут, прекрасный и серьезный, живой как наяву. На меня нахлынули все те чувства, которые я испытывала в юности, находясь рядом с ним, слушая звук его голоса.
Вано был учеником Пироски, но он знал больше, чем кто-либо еще. Знал то, чему нельзя научиться и чему нельзя научить, и все, что он говорил, было правдой, если только вы были в силах понять ее. Часто даже он сам до конца не понимал, что именно знает – он месяцами говорил об огне, прежде чем кто-либо из нас понял почему, – но доверял своему источнику знаний: знакам на мху, узорам, оставленным волнами на песке, тому, как отнюдь не случайно раскрошились комки торфа в очаге, – а я доверяла ему. Но можно ли теперь верить словам Вано? Прошло больше ста лет, он давно умер, его больше нет. Сбываются ли пророчества провидцев из загробного мира?
Мой конец приближается, сказал он во сне, но как это может быть? Я никогда не умру, как бы мне этого ни хотелось. А потом он сказал, что Чернобог видит меня и идет по моему следу – бог из почти забытой крестьянской религии в стране, находящейся за тысячи миль отсюда. Это просто нелепый сон, но мне все равно страшно. Может быть, когда-то давным-давно я и верила в это. Может быть, много лет назад мне и казалось, что я ощущаю его грозное присутствие, считая каждую трагедию делом его жестоких рук, и однажды мне даже привиделось его лицо в реке, но это все позади. Кто же теперь верит в такое?
Эта вера, а также сам Вано – его знание, его магия и предвидение – принадлежали другому времени, миру более прозрачному, более непостижимому. Мир изменился, в нем нет больше места для тайны и божественного присутствия. Теперь люди носят наплечники. Делают химическую завивку. Если им хочется чудес, они щелкают выключателем, вращают рукоятку. Чайные листья завариваются в чайных пакетиках, по их расположению на дне чашки не предсказать будущего. Боги никого не преследуют, а у времен года нет предопределенного конца.
Я сижу, потирая лоб. В болезненном оцепенении смотрю в окно. Снаружи еще не рассвело, и небо затянуто молочным туманом, скрывающим звезды. В этом нет ничего необычного. Я сплю ровно четыре часа в сутки, и мне никогда не было нужно ни минутой больше. Каждый вечер я ложусь спать около одиннадцати и каждое утро просыпаюсь около трех. Несколько часов до того, как по-настоящему начнется день, я могу посвятить живописи.
Я чувствую Вано, нежность к нему не исчезает, как осадок или невидимый призрак. Но с меня довольно.
– Ты мертв, Вано, – говорю я комнате, безмолвной деревянной обшивке стен, четырем резным столбикам кровати, восточному ковру и широким бдительным окнам. – И ты, и Пироска. Мой отец мертв, и Джейкоб тоже, Мерси мертва, Пауль мертв, Халла мертва. Эти дети умрут. А я буду жить. Вот так оно все. Так тому и быть.
Я глубоко вздыхаю, словно хочу с выдохом отделаться от всех этих мыслей, и ступаю на холодный деревянный пол.
– Что ж, надо жить дальше.
Мастерская находится в мезонине над оранжереей. С балкона можно увидеть мощеные дорожки, извивающиеся среди ухоженных тропических растений, аккуратный маленький прудик с оранжевыми пятнами жирных золотых рыбок и маленькие детские мольберты, расставленные веером вокруг натюрморта, над которым мы работали. Полосатая, как тигр, Элоиза сидит на краю пруда и с вожделением следит за плавающей рыбкой.
Моими холстами заполнен почти весь чердак и каретный сарай. Картины из цикла, над которым я работаю, сейчас висят на стенах мастерской передо мной: несколько небольших черновых этюдов и пара больших незаконченных полотен. Неудивительно, что это виды с надгробиями: одно, покрытое мхом, почти утопает в колючих зарослях ежевики, а из-за него, как из-за вершины холма, пробиваются лучи восходящего солнца, в траве перед другим стоит огарок свечи и букетик увядших цветов с осыпавшимися лепестками, третье – маленькое – почти полностью скрыто высокими зарослями тимофеевки. На металлической табличке написаны годы рождения и смерти, и если вычесть, то получится четыре.
Раскладываю принадлежности для рисования, соскребаю с палитры засохшую краску и недоумеваю, почему, едва проснувшись, испытываю дикий голод, хотя ела только вчера (почему последнее время я постоянно чувствую голод?), и вдруг слышу тихий звук откуда-то из недр дома.
Я не сразу обращаю на него внимание. Обычно все странные звуки – от разгуливающих по дому кошек, но Мирра у моих ног, а Элоизу я видела внизу у пруда с рыбками. Марни и Рина так рано не приходят. Я прекращаю скрести палитру ножом и прислушиваюсь. С раздражением думаю о словах Вано из моего сна. Не иначе, воспоминание о Чернобоге, тихий шум шагов которого заставлял меня замирать в прошлом и теперь вынуждает глупо прислушиваться к странным звукам в доме.
Я собираюсь было вернуться к соскребанию краски, убеждая себя оставить глупости, когда раздается новый звук, похожий на визг дверных петель или скрип захлопнувшегося ящика. Я кладу нож на палитру и поднимаюсь. Придумывая всевозможные безобидные объяснения этого шума, открываю дверь из оранжереи в коридор второго этажа. Восточное и западное крылья дома разделены винтовой лестницей, но там не видно ничего необычного.
Иду по коридору, прислушиваясь. На лестнице внимательно всматриваюсь вниз и вверх, но опять тишина. Прохожу по коридору дальше, подхожу к своей спальне в восточном крыле и вижу, что дверь открыта, что очень странно – днем в доме полно людей, и я обычно педантично закрываю ее, ограждая хоть малую толику личного пространства от случайного вторжения. Уверена ли я, что заперла ее сегодня утром?
Стою в коридоре, пытаясь вспомнить, закрыла ли я, как обычно, дверь или почему-то оставила ее открытой, когда тишину пронзает пронзительный визг.
У-и-и-и, у-и-и-и-и, у-и-и-и-и.
От внезапного истошного вопля сирены я зажимаю руками уши, и меня прошибает холодный пот. По абсолютно непонятной причине внезапно сработала и загудела пожарная сигнализации.
У-и-и-и, у-и-и-и-и, у-и-и-и-и, – завывает сирена, предупреждая о дыме и об огне, хотя, насколько я вижу, не наблюдается ни того, ни другого.
VII
Семь недель ушло на то, чтобы пересечь Атлантику. Сколько бурь бушевало над нами? Нет смысла даже пытаться их сосчитать. Сколько людей погибло? Этого я тоже не могла сказать. По крайней мере, не меньше целого класса детей. Людей тошнило. Еда портилась, ее облепляли насекомые и их личинки, везде валялся крысиный помет. По мужским бородам прыгали вши, матери вычесывали их из волос детей, но это не помогало. От них не было спасения. На судне ни от чего не было спасения.
Мерси, ее мать и брат заболели: они метались в жару лихорадки и бредили. Я ухаживала за ними, хотя мало чем могла помочь: смачивала им рот тряпочкой с вонючей водой и с трудом пробиралась на камбуз, чтобы сварить для них кашу. Готовила, когда штормило – тогда мне приходилось бороться только с непогодой и корабельной качкой, а не с другими пассажирами. Во время одного из таких штормов, посреди ночи, я готовила для Мерси и ее семьи. Котелок над огнем болтался из стороны в сторону, чудом не переворачиваясь, а фонарь на крюке раскачивался и отбрасывал дикие, злобные тени.
– Матерь Божья, мне бы не помешало поесть, – раздался голос от дверей камбуза, и я испуганно вскинула голову. – Мне всегда готовила жена. Не ел горячего с тех пор, как ее тело поглотила пучина.
Это был пьяница, жена которого умерла при родах. Мы все видели, как он на своей койке напивался до одури припасенным алкоголем, и поняли, что запас закончился, когда он начал охать, ворочаться и затевать ссоры.
– Сожалею о вашей утрате, сэр, но эта каша мне нужна, и с вами мне нечем поделиться.
Нос корабля нырнул вниз в глубокую ложбину между волнами. Я свалилась на пол и покатилась по полу кухни к мужчине, который уцепился за дверной косяк, чтобы не упасть. Он подхватил меня и помог подняться на ноги, но, прежде чем отпустить, медленно провел рукой по моей руке от плеча до локтя. Я с негодованием вырвалась и вернулась к каше.
– Я и другие мужские потребности не удовлетворял с тех пор, как умерла моя жена. Я видел, как ты ухаживаешь за другими. Ты такая заботливая и добрая.
– Забота о собственной семье – это не доброта, это долг.
– Это не твоя семья. Я видел раньше на тебе миленькую дорожную одежду. Ты из другого класса. Ты здесь одна. Что ты делаешь здесь одна?
Я не ответила, выкладывая кашу в большую миску, стараясь, чтобы он не заметил, как трясутся мои руки.
– Они плохо выглядят. Умрут, скорее всего. Если хочешь, я мог бы присмотреть за тобой. Мы могли бы позаботиться друг о друге.
Стиснув зубы, я взяла кашу и ложку.
– Можете выскрести остатки, – сказала я, проталкиваясь мимо него. – Больше я ничего не могу для вас сделать.
Я продолжала ухаживать за Мерси и ее семьей, но, поднимая глаза, видела, что тот мужчина лежит на койке напротив и наблюдает за мной. Он занял освободившееся место прямо перед моей койкой, и его назойливый взгляд неотступно преследовал меня. Наконец я подошла к двери Агостона и постучала в нее. Я не знала, поймет ли меня Агостон. А даже если и поймет, не будет ли ему все равно?
– Агостон, – прошептала я в шероховатую древесину. – Мне нужна помощь, Агостон. Я боюсь.
Изнутри не донеслось ни звука. Я топнула ногой.
– Агостон, дедушка сказал, что я могу тебе доверять, – сердито прошипела я. – Дедушка велел тебе заботиться обо мне. Он был бы недоволен.
Мои глаза горели от слез, но дверь не шелохнулась – и Агостон, похоже, тоже. Вытирая выступившие на глазах от ярости слезы, я повернулась и пошла обратно через кают-компанию, где капитан курил сигары с аккуратно одетыми и ухоженными пассажирами высшего класса из отдельных кают. Они шутили и смеялись, как будто в десяти футах от них не находилось пристанище смерти и отчаяния, зияющая бездна самого ада.
Когда я вернулась на нижнюю палубу, у меня перехватило дыхание. Мужчина с камбуза стоял у койки Мерси, прислонившись к балке, и, глядя сверху вниз, разговаривал с ней.
– Отойдите, пожалуйста, сэр, – сказала я дрожащим голосом. – Она только что пришла в себя, и ей вредно говорить.
Мужчина улыбнулся мне, с чрезмерной вежливостью желая Мерси на прощанье всего лучшего.
– У нее дифтерия, имейте в виду, – настаивала я.
Мужчина только снова улыбнулся мне и небрежно направился к своей койке.
– Мне очень жаль, правда, – он кивнул головой в сторону матери и брата Мерси, – но они не выживут. Две девочки одни на корабле, нужно, чтобы кто-то приглядел за вами.
– Как вы приглядели за своей женой и ребенком?
Пробежавшая по его лицу мрачная тень испугала меня, и я подумала, что, наверное, зашла слишком далеко.
– С нами все будет хорошо, – поспешно сказала я, забралась на койку рядом с Мерси и вытерла ей тряпкой мокрый от пота лоб, стараясь не смотреть на мужчину.