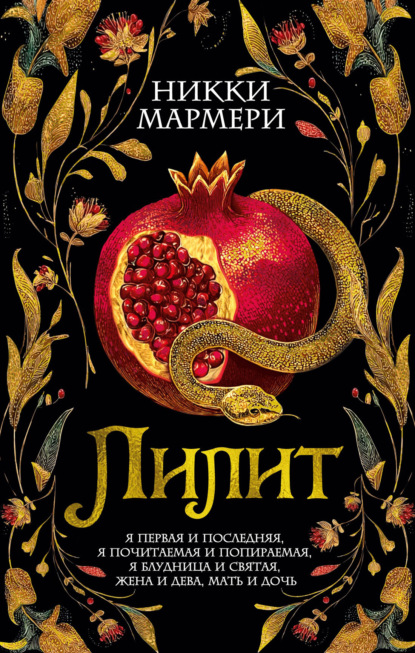Полная версия
Бог безвременья
Во время собеседования казалось, что все вызывает у Дэйва Хардмэна раздражение. Кэтрин, скрестив ноги и опершись локтем о колено, подперев подбородок длинными красивыми пальцами, подавшись вперед, внимательно слушала, а Дэйв сидел развалившись в кресле, сцепив толстые пальцы на животе, с нескрываемой скукой оглядывая комнату. Если он и заговаривал, то исключительно для того, чтобы возразить на какую-нибудь незначительную фразу своей жены. Большую часть времени Кэтрин пыталась сглаживать это пассивное проявление враждебности и слишком много улыбалась, хотя покрасневшая кожа над вырезом рубашки выдавала ее смущение.
В какой-то момент я спросила Дэйва, есть ли у него вопросы.
– Сколько? – ответил он мученическим тоном, но, когда я протянула ему формы оплаты, лишь отмахнулся.
– Не важно. Я все равно оплачу.
Все это время Лео сидел рядом с матерью. Он походил на маленького и хрупкого птенчика: большеглазый, осоловелый, с беспорядочной копной темных волос и бледно-желтым, нездоровым цветом лица, как у азиата, которого не пускали на солнце. Лео сидел тихо, если не считать внезапных приступов кашля, которые он пытался подавить, утыкаясь в рукав маминой куртки и оставляя мокрые следы на ткани. В неловком затишье после последней реплики мистера Хардмэна он снова закашлялся.
– Ты сегодня плохо себя чувствуешь, Лео? – спросила я. – Какой противный кашель.
Маленький мальчик еще глубже зарылся в рукав.
– У него слабые легкие, – сказала Кэтрин. – С рождения. В самом деле сейчас он чувствует себя намного лучше. Когда он был совсем маленьким, клянусь, он постоянно болел – бронхиты, ОРВИ, отиты, чем он только ни болел, иногда даже одновременно. В два года он на неделю угодил в больницу с воспалением легких. Сейчаснамного лучше. Периодический кашель, легкая астма – это пустяки по сравнению с тем, что было раньше. В отделении скорой помощи нас уже узнавали в лицо.
Она, нахмурившись, посмотрела на рукав своей куртки, заметив, что он использовался как носовой платок.
– Узнавали? – вмешался Дэйв с пренебрежительным скептицизмом. – В отделении скорой помощи вас узнавали в лицо?
– Лео, – сказала я, делая вид, что не слышу этого замечания и не вижу взглядов, которыми обменялись муж и жена, – принести тебе стакан воды? Как ты думаешь, это поможет тебе избавиться от кашля?
Лео снова молча посмотрел на меня своими большими темными глазами.
– Последнее время он целыми днями молчит, – сказала Кэтрин. – Лео, ты слышал, что спросила мисс Колетт? Хочешь воды?
– Если честно, – сказал мистер Хардмэн заговорщицким тоном, понижая голос и наклоняясь ко мне, – думаю, это все для привлечения внимания. Что мать, что сын.
Я не поняла, имел он в виду кашель или молчание, да это было и не важно. Меня внезапно охватила клаустрофобия, как будто семейные неурядицы Хардмэнов раздулись до неимоверных размеров и заполнили собой весь кабинет, вытесняя из него всех остальных.
– Можно мы с Лео прогуляемся? По школе.
Прогулка вдвоем с ребенком иногда входила в собеседование, если я серьезно размышляла, брать его в школу или не брать. Но сейчас у меня просто возникло жгучее желание сбежать от Хардмэнов подальше.
Взрослые встали, чтобы пойти вместе с нами, но я жестом остановила их.
– Пожалуйста, останьтесь. Рина принесет вам по чашке кофе со сливками с фермы Эмерсонов, которая тут неподалеку, мы с детьми часто туда ходим. Мы с Лео ненадолго.
Лео казался очень робким, и я сомневалась, что он пойдет со мной, но он взял мою протянутую руку, и мы отправились осматривать классы. Он безучастно и вяло оглядывался по сторонам, равнодушно дотрагиваясь то до книги, то до обруча, а в ответ на мои вопросы кивал или мотал головой, или просто молча смотрел на меня. Однако, когда мы вошли в студию для рисования, его словно подменили. Он выпрямился. Во взгляде исчезла апатия, он с восхищением и восторгом принялся разглядывать все вокруг.
– Можешь делать здесь все что угодно, – сказала я, и он недоверчиво обернулся ко мне. – Что угодно, – повторила я, кивнув. – Правда, давай.
Он целенаправленно, не оглядываясь ни на что другое, подошел к столу с деревянной человеческой фигурой и цветными мелками, карандашами и пастелью и снова посмотрел на меня. Я улыбнулась и кивнула. Он сел на стульчик, взял пастельный мелок и медленно начертил на листе бумаги толстую зеленую линию. Потом взял другой мелок и провел еще одну линию, затем еще одну, изучая маслянистый пигмент. Размазав линию, он с испугом посмотрел на яркое пятно на пальце.
– Все в порядке, – сказала я, протягивая ему тряпку. – Пальцы – самый важный инструмент художника. Когда рисуешь, нельзя их не испачкать.
Он взял карандаш из жестяной коробки и начал рисовать. Я молча стояла позади него и смотрела. Большинство детей начинают рисовать, используя определенные приемы или методы. Звезда – это всегда два треугольника, один вершиной вверх, а другой – вниз. Птицы в небе всегда в форме латинской буквы «V» с опущенными краями. А солнце обязательно будет кругом с торчащими из него лучиками, вроде велосипедного колеса. Лео нарисовал дом – дети часто рисуют дом, – но его дом отличался от других: это был узнаваемый конкретный дом. Я увидела трехэтажное каменное здание, каких много в городе, где, по словам его матери, они жили до переезда в северную часть штата. Перед ним он нарисовал людей – не фигурок из палочек, а, скорее, тоненьких снеговиков. Их причудливые лица и волосы завораживали. Тонкие неровные волосинки, где-то по два десятка у каждого, были аккуратно прорисованы карандашом.
Члены семьи располагались по росту, первым – самый высокий, как это обычно и бывает: сначала женщина с длинными волосами и красивым ртом, затем мужчина с всклокоченными волосами, торчащими вверх и в стороны, похожими на верхушку пламени, за ним еще один, почти такой же, но поменьше, и, наконец, кошка с пятнами разной формы на боку и на морде.
– Это твоя семья, Лео?
Он не ответил, а просто посмотрел на рисунок и еще чуть-чуть подштриховал пятно на кошке.
– Какая чудесная картина! Ты знаешь, что у нас в школе тоже есть кошки? Это твоя кошка?
– Да, была, – тяжело вздохнул он, – но Пазл убежала, а потом мы переехали, и она теперь ни за что меня не найдет.
– О, как жаль. Ты, наверное, очень расстроился. Ее звали Пазл? Какое чудесное имя для кошки.
Он продолжал заштриховывать различные части рисунка без дальнейших комментариев.
– Это твоя мама?
Кивок.
– А это твой папа?
Он помотал головой и принялся дорисовывать волосы на головах фигур.
– Тогда это он?
Он помотал головой еще раз.
– И где же тогда твой отец? – рассмеялась я. В детских рисунках родственные отношения и привязанности часто беззастенчиво выставляются напоказ. Лео лишь пожал плечами.
– Думаю, что один из них – ты, – сказала я, указывая на две мужские фигурки в середине. – Это ты, верно?
Кивок.
– Так, а кто же второй?
Лео взглянул на меня своими большими глазами, как будто оценивая, затем снова пожал плечами.
– Ты очень хороший художник, Лео.Очень. Давай попробуем изобразить что-нибудь еще.
Я протянула руку через его плечо к деревянной фигуре и поставила ее поближе к нему. Я подняла руки безликого человека, как будто он собирался отвесить глубокий поклон с театральной сцены.
– Нарисуешь его для меня? – попросила я.
Он, прищурившись, изучающе посмотрел на форму и наклонился вперед, слегка высунув язык и посильнее сжав карандаш. Он нарисовал фигуру. Из-за того, что он так крепко и старательно сжимал карандаш, линии выходили очень напряженными, но, несмотря на излишнюю резкость и угловатость, человеческая фигура получилась у него на редкость хорошо для такого маленького ребенка.
Затем я поставила фигуру на одно колено – нарисовать согнутую ногу в перспективе не всегда хорошо удается даже опытным художникам. Дети обычно решают проблему перспективы в духе Пикассо, изображая трудную ногу под другим углом. Лео не упростил себе задачу, не изменил положение ноги, следуя логическому представлению о том, как должна выглядеть нога, он нарисовал ее так, как видел: уже не ногу, а сочетание форм, которые все вместе складывались в ногу. Это был, конечно, детский рисунок, но тем не менее он поражал редкой смелостью, свободой от ограничений логики, интуитивным мастерством. Я разложила перед ним рисунки, чтобы мы вместе могли их рассмотреть.
– У тебя талант, Лео. Ты любишь рисовать? Это приносит тебе радость?
Он посмотрел на меня без малейшей радости в глазах, но затем кивнул, и уголок его рта приподнялся в жалком подобии улыбки.
– Ну что, пойдем покажем эти чудесные рисунки твоим родителям?
К моему удивлению, Лео помотал головой. Он с опаской потянулся к первому рисунку с домом и семьей, вытащил его, взялся за край и принялся плотно сворачивать. Свернув его в трубочку, он засунул ее поглубже в карман.
– Хочешь оставить его себе?
Он кивнул.
– А как насчет остальных? Можно я покажу их маме и папе?
Он снова кивнул, и я подумала, что, наверное, он не хочет огорчать отца тем, что того нет на семейном портрете. Но когда мы вернулись в кабинет, Кэтрин была одна. Она объяснила, что Дэйву пришлось срочно убежать на одну ужасно важную встречу, о которой он совсем позабыл, и мы обе сделали вид, что опечалены его отсутствием, хотя, я уверена, нам обеим стало только легче. Показывая Кэтрин рисунки Лео, я думала, что он вытащит и рисунок, спрятанный в кармане, ведь Дэйв ушел, но этого так и не произошло.
Оставшись одна, я долго рассматривала рисунки Лео. Они были, несомненно, талантливы. Я думала о Кэтрин и Дэйве Хардмэнах, о том, что их брак давно распался, прогнил и плохо пахнет, как заплесневелое яблоко. Я представила, что придется встречаться с ними на собраниях и что они будут сопровождать нас на школьных экскурсиях. Впрочем, маловероятно, что такие люди, как Дэйв Хардмэн, часто принимают активное участие в жизни ребенка. Скорее всего, общаться я буду только с Кэтрин, которая показалась мне достаточно милой. Обычно я стараюсь избегать таких проблем, которые сулило мне общение с Хардмэнами, но тут я пошла на риск – я сама была художницей, и мысль о работе с ребенком с задатками подлинного гения показалась мне заманчивой. Я приняла решение и позвонила Хардмэнам, предложив Лео место в школе. Как оказалось, это место он занял лишь чуть больше, чем наполовину.
Выйдя на крыльцо и бросив последний взгляд на подъездную аллею, я задаюсь вопросом, когда же сегодня появится Лео. Он всегда очень расстраивается, пропуская урок рисования.
– D’accord[16], глупышки мои, – говорю я, закрывая входную дверь и поворачиваясь к детям, все еще беспорядочно толпящимся или развалившимся на полу в прихожей. – Мы готовы идти в класс?
– М-м-м, как вкусно па-а-ахнет! – восклицает с голодным нетерпением, нелепо гримасничая, сидящий на полу Октавио.
– С’est vrai[17]. Ты прав, – говорю я. – Кто-нибудь еще хочет есть?
Урчанье в моем животе присоединяется к восторженным крикам детей. Повсюду запах крови, и я вот точно хочу есть.
III
Сначала меня держали в маленьком каменном каретном сарае в поместье деда. Находясь в одиночестве, я равнодушно играла с тряпичной куклой, принесенной дедушкой, или смотрела в щель между широкими синими ставнями. Сквозь щель было видно дом, возвышающийся над горизонтом, его огромный каменный силуэт с пятью дымоходами, устремленными в небо, казался крошечным в окружении гигантских сосен. Почти каждый день бабушка в черном траурном платье выходила гулять в сад. Из окна я наблюдала за тем, как она останавливается, бережно приподнимая цветок лилии, или наклоняется, прикрыв глаза, чтобы насладиться ароматом кустовой розы.
– Ты же понимаешь, что с ней нельзя заговаривать, – сказал дедушка, застав меня однажды у окна, – да, Аня?
При рождении мне дали имя Анна. Дедушка звал меня Аней, я смутно помнила, что в прошлом при редких встречах мне это даже нравилось, но теперь слышать это имя было невыносимо, оно напоминало о моем одиночестве и отрезанности от мира.
– Анна, – тихо сказала я дрожащими губами, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. – Меня зовут Анна.
Дедушка весело рассмеялся, выпятив живот, как будто я сказала что-то удивительно смешное. Прекратив смеяться, он вытянул руку, широко растопырив толстые грубые пальцы.
– Раусиум, Рагусиум, Раусия, – сказал он, считая на пальцах, – Раугия, Рахуза, Лавуса, Лабуса, Дубровник. Как только не называли мою родину. Заметь, это даже не полный перечень.
Он укоризненно погрозил мне пальцем.
– Имена как шляпы, Аня. Надеваешь, снимаешь. Если холодно, носишь ту, которая потеплее. Со временем имена меняются. Не привязывайся.
Он подошел к закрытому окну и выглянул в щель, у которой я стояла до этого.
– Ты не должна заговаривать с нею. Никогда. Я знаю, что тебе тяжело, дитя мое, и мне очень жаль, но это необходимо.Необходимо. Vremenie – те, кто умирают молодыми, – они как дети. Их понимание ограничено. Даже у хороших, как твоя бабушка. Неразумно сталкивать их с тем, что выше их понимания.
– А как же я, дедушка?
– Ты? – переспросил он. Казалось, мой вопрос одновременно развеселил и разозлил его. – При чем здесь ты?
– Я – выше моего понимания, – ответила я, и из моего глаза вытекла слеза, первая, которую я позволила себе пролить в его присутствии.
Он холодно посмотрел на меня глазами цвета темного меда и слабо улыбнулся одним уголком рта.
– Нет, – сказал он. – Не выше.
У дедушки был слуга Агостон, которому поручили заботиться обо мне. Это был высокий мускулистый мужчина с темными волосами и окладистой темной бородой, чуть подернутой сединой с одной стороны. Он приходил каждый день без стука, складывал новые поленья у очага, опорожнял ночной горшок и бросал на деревянный стол тушу только что забитого животного, и все это с ухмылкой на лице, в которой мне виделась скрытая угроза. Я сидела насупившись во время его прихода, боясь его самого и его ухмылки, но от этого она становилась только шире и страшнее.
Долгое время я не ела. Не могла. В животе урчало, но сама мысль о том, чтобы подойти к животному, поднять его, почувствовать, как обнажаются и выдвигаются мои новые потайные зубы, впиваясь в его кожу, казалась мне невыносимой. Она вселяла в меня ужас.
Когда Агостон приходил и видел, что я так и не притронулась к вчерашнему кролику или тетереву, он хватал его за одеревеневшие конечности и, угрожающе размахивая им, бормотал мне что-то на невразумительном наречии, на котором они разговаривали с дедушкой. Затем бросал труп на стол и впивался ему в шею своим ухмыляющимся ртом так, что маленькие струйки крови стекали по его подбородку. Когда я с отвращением отворачивалась, он смеялся.
Чтобы как-то утолить голод, я ночами пробиралась вниз и грызла грязную свеклу и морковь, хранившиеся там для упряжных лошадей. Овощи казались мне на вкус странными и несъедобными, но я все равно, сидя на грязном полу, старательно давилась ими, затем меня рвало, и я отчаянно рыдала, уткнувшись в свои красные от свеклы ладони. Я чувствовала запах лошадиной крови, от этого чувство голода обострялось, усиливая мое безумное отчаяние.
Несмотря на предостережение дедушки, мне все еще хотелось подойти к бабушке, выбежать с криком к солнечному свету и цветам, броситься к ней, зарыться лицом в мягкую шерсть ее черной шали. Я часто задавалась вопросом, насколько другой могла бы быть моя жизнь, если бы я сделала это, если бы пошла наперекор воле деда, а не позволила ему себя спрятать, превратившись в его марионетку, пешку в партиях, которые он разыгрывал. Но я была почти совсем одна на свете, кроме него, мне некому было довериться.
После нашего разговора дедушка, несомненно почувствовав мое желание, всегда сопровождал бабушку на прогулках по саду. Меня не было видно за ставнями, но он умудрялся смотреть прямо на меня. Взгляд его был спокоен, однако в нем читался явный запрет, и я не смела его нарушить.
Вскоре после этого меня разбудили посреди ночи. Дедушка велел мне вставать и одеваться. Я увидела, что он принес мне дорожную одежду, и услышала, как снаружи фыркают и шуршат копытами по гравию лошади. В окно было видно, как в мягком свете каретных фонарей блестят темные шкуры животных.
– Куда мы едем? – спросила я, но, когда обернулась, дедушка уже вышел.
На улице, пока Агостон поднимал сундук в карету, я снова спросила:
– Куда мы едем, дедушка?
Он взял меня за руку и усадил в экипаж, а затем ловко и заботливо укутал одеялом бархатную юбку моего нового брауншвейгского костюма.
– Мы не едем, – сказал он, выходя из кареты и плотно закрывая за собой дверцу. – Ты едешь. В мою страну. С тобой едет Агостон.
Я вцепилась в его руку, лежавшую на дверях экипажа.
– Нет, дедушка, нет. – Опасаясь поднимать шум, я говорила тихо, но в моем голосе сквозила явная истерика, а по щекам потекли слезы. – Пожалуйста, дедушка,пожалуйста. Я буду хорошо себя вести. Я никогда не заговорю с бабушкой. Не отсылай меня. Не отсылай меня одну.
– Ты будешь не одна. Я же сказал, с тобой едет Агостон.
– Дедушка, – прошептала я, яростно тряся его за руки, – я не хочу ехать с ним. Я его боюсь.
– Если ты боишься его, то должна бояться и меня, потому что я доверяю ему, как самому себе. Он для меня больше чем брат.
– Ты приедешь за мной? – спросила я, не отпуская его и пытаясь разглядеть в темноте его глаза. – Ты потом заберешь меня?
– Да, да, я приеду за тобой, – сказал он успокаивающим тоном и попытался высвободиться, но я продолжала сжимать его руку, не переставая всхлипывать. Наконец, он взял обе мои руки в свои, стиснув их бережно, но крепко.
– Аня, послушай, что я сейчас скажу.
От этих слов, от ощущения силы его рук, от его взгляда я утратила волю к сопротивлению. Мое тело и разум смирились и успокоились. Сложно сказать, подчинилась ли я его словам или чему-то другому, некой невидимой, но неодолимой силе, исходящей от его существа. Довольный достигнутым результатом, он продолжил:
– Все существа во всех царствах мира разделяются следующим образом… – Он поднял два пальца. Мои руки, освободившись, тяжело упали на колени, застыв в неподвижности. – На тех, кто боится, и тех, кто не боится. В тебе есть великая сила, moja ljubav[18], но ты боишься. Единственный непростительный грех – оберегать других от их страхов. Я никогда не совершу такого греха. Я никогда не помешаю тебе избавиться от твоего страха. Правда, Аня, из любви к тебе я бы хотел, чтобы это случилось побыстрее. Это мой тебе подарок.
Дедушка кивнул Агостону, сидевшему на месте возницы. Щелкнул хлыст, карета тронулась, дедушка остался позади и исчез во мраке.
IV
Общение с мелкими животными, как принято считать, приносит детям пользу – какую именно, науке еще предстоит установить, однако редко, когда в классе для дошкольников нет клетки с кроликами, лениво жующими свой корм, не слышно прерывистого писка песчанки, трудолюбиво перебирающей лапками в своем колесе, или как минимум на столе у учителя не плавает маленькими кругами аквариумная рыбка. У нас в школе есть кошки. Две из них свободно расхаживают по всему дому: Мирра и Элоиза гипоаллергенны и крайне дружелюбны. Остальные сидят взаперти на чердаке и, скорее, служат моим целям, хотя можно привести веские доводы, доказывающие их значительную, хотя и косвенную, пользу и для детей.
Голодный час тянется за голодным часом, цветные полоски с пунктами нашего распорядка дня спускаются все ниже, приближаясь к дневному сну, когда я наконец смогу утолить разыгравшийся аппетит. Мы педантично пунктуальны в наших повседневных делах, и поэтому я должна соблюсти все ритуалы отхода ко сну – горшки, парочка подгузников для тех, кто крепко спит, одеяла, нагрудники и мягкие игрушки распределяются с такой же дотошностью, как лекарства, предписанные пациентам психиатрической больницы, – изо всех сил стараясь не обращать внимания на нетерпеливо растущее чувство голода.
Кошки ходят за мной следом, успокаивают детей своим мурлыканьем и ласково трутся о ножки кроваток, грациозно расхаживая среди них с поднятыми, как перископы подводных лодок, хвостами. Дети со слипающимися глазами сонно тянутся к ним со своих мест. Когда шторы опущены, комната погружена в полумрак и слышно только сосание пальцев и ленивое ритмичное постукивание ног в тапочках по перилам кроваток, я наконец-то могу удовлетворить свой голод. Мои кровяные зубы выдвигаются вперед в полной готовности. Когда я знаю, что наступает время обеда, их невозможно сдержать, как поток слюны при виде еды.
Я тихо встаю с кресла-качалки, изо дня в день убаюкивающей детей своим ритмичным поскрипыванием. Медленно и осторожно пробираюсь между кроваток с дремлющими детьми, укрытыми одеялами, проверяя, заснули они или нет. Одна кроватка пуста – Лео сегодня не опоздал, он просто не пришел. Наклоняясь то тут, то там, чтобы поправить одеяло или подобрать упавшую на ковер соску, я, наконец, выскальзываю за дверь и поднимаюсь через два лестничных пролета на третий этаж, а потом, со скрипом опуская шаткую выдвижную лестницу, – еще выше, на чердак.
Взобравшись по этим деревянным ступеням на самый верх, я подпираю ладонями люк и медленно и осторожно поднимаю его.
Здесь стоит специфический аммиачный запах мочи, неискоренимый никакой химией. Я открываю дверь шире, и мяуканье кошек, похожее на детский плач, сливается в тонкий разноголосый хор.
Внезапно Мирра, которая незаметно увязалась за мной на третий этаж, проносится мимо и влетает по лестнице в залитую солнцем комнату, присоединяясь к толпе из двух десятков своих деловитых и изящных сородичей.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
6,8 килограмм. –Здесь и далее прим. перев.
2
Вздор! (хорват.)
3
Час в кругу, время круга (фр.).
4
Завтрак, время круга, искусство, обед, сиеста (фр.).
5
Здравствуйте, мои маленькие утятки! Здравствуйте, доктор Снайдер! (фр.)
6
Здравствуйте, мадам Лесанж (фр.).
7
Именно (фр.).
8
Минута в минуту! (фр.)
9
Очень хорошо, моя дорогая! Как аккуратно! (фр.)
10
…детка? Тебе помочь? (фр.)
11
…моя красавица. Какая сила! Какая решимость! (фр.)
12
Спасибо (фр.).
13
Боже мой! Какой ужас! (фр.)
14
Мышка (фр.).
15
Какая ты богатая, очень-очень богатая! (фр.)
16
Хорошо (фр.).
17
Верно (фр.).
18
Любимая (хорват.).