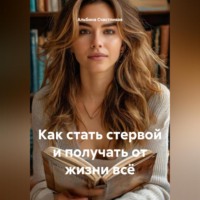Полная версия
Шепот старой горы
Он не мог сидеть здесь. Не мог слушать эти стены. Ему нужно было движение. Осмысленное действие. Что-то из его первоначального плана. Заброшенная церковь. Пункт 12. Место, которое Васёна вчера вскользь упомянула как "используемое для непонятных целей", а Егорыч в своем пьяном бреде обозвал "пристанищем для пырныш (ведьм)". После Глафиры это звучало как вызов.
Он встал, чувствуя, как подкашиваются ноги. Голова гудела, в глазах плавали цветные пятна – остаточный эффект зелья или нарастающая истерия? Он схватил фонарь (батареи садились тревожно быстро), диктофон (инстинкт ученого, уже почти бессмысленный) и вышел в вечно серый, туманный полдень Ыджыд-Войвыра.
Дорога к церкви вела вверх, к краю деревни, туда, где тайга смыкалась с подножием скалистого отрога Старой Горы. Воздух здесь был еще холоднее, тяжелее. Туман висел плотными клочьями, цепляясь за черные, кривые стволы лиственниц. Церковь возникла внезапно, как призрак из пелены.
Она была не просто заброшенной. Она была мертвой. Небольшая, деревянная, некогда, видимо, скромная, но теперь – обрушенный скелет. Купол провалился внутрь, оставив зияющую черную дыру. Колокольня покосилась, грозя рухнуть в любой момент. Стены почернели от времени и влаги, местами обшивка отвалилась, обнажив гнилые бревна, похожие на ребра гигантского ископаемого. Окна были выбиты, зияя пустыми глазницами. Крест над входом, если он и был, давно сгнил или упал. Перед входом – провал в земле, заросший крапивой и лопухами, как незаживающая рана.
Тишина здесь была иной. Не просто отсутствием звука. Она была вытравленной. Даже вечный шелест лишайника на деревьях, свист ветра в вершинах – все стихло. Как будто само место высасывало звук, оставляя вакуум, давящий на барабанные перепонки. Алексей остановился, ощущая этот гнетущий гул тишины. Его фонарь выхватывал из тумана груду черных, обгорелых бревен у стены – следы большого костра. И не одного.
Он подошел к зияющему дверному проему. Двери не было, лишь темный провал, пахнущий холодной сыростью, гарью и… чем-то сладковатым, как падаль, припорошенная землей. Алексей глубоко вдохнул, зажав рот рукой от спазма тошноты (это зелье все еще давало о себе знать), и шагнул внутрь.
Обстановка внутри ударила по нервам сильнее, чем куклы Глафиры. Это было не просто запустение. Это был оскверненный храм. Пол усыпан битым кирпичом, гнилыми досками, птичьим пометом и костями – мелкими, птичьими или звериными. Алтарь был снесен, на его месте – груда камней, напоминавшая жертвенник. Стены… стены были покрыты знаками. Не граффити, а выжженными или нарисованными тем же бурым составом, что и на двери Глафиры, символами. Спирали, переплетающиеся змеи, стилизованные оленьи рога, схематические изображения горы с глазом на вершине, лапы с когтями… и множество глаз. Простых, тройных, с вертикальными зрачками. Они смотрели на Алексея со всех сторон, мерцая в луче фонаря.
Посреди единственного уцелевшего нефа зияло огромное черное пятно – след гигантского кострища. Вокруг него валялись обгоревшие кости покрупнее – овечьи? Собачьи? По краям пятна лежали грубо слепленные фигурки из глины и веток – подобия тех "кукол", что видел Алексей у входа в шахты. Здесь они казались стражами или участниками неведомого обряда. Воздух над кострищем дрожал, хотя огня не было – казалось, жар все еще тлел под пеплом.
Алексей включил диктофон. Щелчок прозвучал невероятно громко в этой давящей тишине.
«Церковь. Предположительно, место проведения ритуалов. Следы масштабных костров. Символы на стенах – дохристианские? Анимистические? Жертвенник? Ощущение…» – он запнулся, не зная, как описать гнетущее чувство присутствия, враждебности, которое висело в воздухе тяжелее тумана. – «Сильный запах гари и разложения. Ощущение осквернения. Сильная…»
Внезапно луч его фонаря выхватил из мрака за алтарной грубой кладкой фигуру. Она сидела на корточках, спиной к нему, неподвижно, сливаясь с тенями. Высокая, сгорбленная, закутанная в темные, лохматые лохмотья. Алексей замер, сердце колотясь где-то в горле. Он не слышал, как вошел. Не почувствовал. Как будто фигура материализовалась из самой тьмы.
– Здравствуйте? – его голос сорвался на шепот, эхом отразившись от почерневших стен.
Фигура не шелохнулась.
Алексей сделал шаг вперед, свет фонаря дрогнул.
– Я не хочу мешать… Я просто изучаю…
Тут оно повернулось. Медленно, со скрипом сухих суставов. Алексей не увидел лица – оно было скрыто глубоким капюшоном и тенью. Но он почувствовал взгляд. Физически ощутил его, как ледяное прикосновение к коже. Невидимые глаза буравили его из темноты капюшона. Он не видел глаз, но знал – они там есть. И они смотрят.
Из-под лохмотьев выскользнула рука – костлявая, покрытая темной, шелушащейся кожей, с длинными, грязными, крючковатыми ногтями. Она не указывала, не грозила. Она медленно провела по полу перед собой. Алексей направил свет. На пыльном полу, под этим когтистым пальцем, проступила спираль. Четкая, глубокая, будто вырезанная за секунду. Рядом с ней – отпечаток. Не человеческой ступни. Не медвежьей лапы. Что-то среднее: четыре длинных пальца с когтями и странный, отставленный пятый палец сбоку. Отпечаток был огромным, глубоким, как будто вдавленным в камень.
Тень. Немой Старик. Тот, кто оставляет знаки.
Алексей почувствовал, как по спине бегут ледяные мурашки. Страх сменился чистой, животной паникой. Это не было похоже на Глафиру с ее куклами или Степана с его пронзительным взглядом. Это было древнее. Первозданно-чуждое. Безмолвное и бесконечно опасное.
– Кто вы? – выдохнул он, отступая шаг. Фонарь в его руке дрожал, луч прыгал по стенам, заставляя двигаться нарисованные глаза. Или они двигались сами?
Фигура не ответила. Она лишь слегка наклонила голову в капюшоне, словно прислушиваясь не к нему, а к чему-то внутри церкви. Или под ней. Из черного пятна кострища донесся слабый… скрежет. Как будто кто-то огромный и сильный ворочался в глубине земли, царапая когтями по камню. Звук был низким, вибрационным, отдававшимся в костях.
Чумья. Дух шахт. Злобный дух места.
Слово всплыло в сознании само, подкрепленное ужасом Глафиры. Алексей почувствовал, как по ногам пробегает волна тошноты и слабости, как вчера у Чумьиных Камней (которые он лишь мельком видел вдали). Воздух стал густым, тяжело дышать. Тени на стенах не просто лежали – они пульсировали, сгущаясь и растягиваясь, будто дышали.
Немой Старик поднял свою когтистую руку и медленно указал пальцем… на Алексея. Потом развернул палец и указал им вниз, на нарисованную спираль и жуткий отпечаток. Жест был недвусмысленным: Это ты. Или это для тебя. Или то, что придет за тобой.
Паника, сдерживаемая до сих пор, прорвалась. Алексей рванулся к выходу, спотыкаясь о битый кирпич, задевая плечом косяк. Он не оглядывался. Он знал – сзади на него смотрели. И незрячий глаз Степана, и безумные глаза Глафиры, и пустые глазницы кукол, и нарисованные глаза на стенах церкви. И безмолвный, невидимый взгляд из-под капюшона Тени. И что-то из глубины, откликаясь на скрежет под полом.
Он вылетел из церкви, вдохнув полной грудью ледяной, но желанный воздух. Туман показался ему спасением. Он побежал вниз, к деревне, не разбирая дороги, чувствуя, как на спину ему давит тяжесть того взгляда из темноты. У самого края деревни, споткнувшись о корень, он упал в грязь. Фонарь выскользнул из рук и погас.
Лежа ничком, задыхаясь, он услышал над головой сухой шелест. Как будто огромная птица пролетела низко над землей. Или что-то скользкое пронеслось по траве. Он поднял голову. Ничего. Только туман и черные силуэты изб. Но на грязной тропинке перед ним лежал камень. Небольшой, плоский, темный. И на нем был выцарапан тот же знак – спираль. Свежий, белесый на темной поверхности.
Рядом с камнем – свежий, четкий отпечаток той же странной, когтистой лапы.
Он приполз. Он оставил знак. Он здесь.
Алексей вскочил и помчался к своей избе, не оглядываясь. Заперев дверь на щеколду и завалив ее табуреткой (смехотворная преграда), он прислонился спиной к холодным бревнам, слушая бешеный стук своего сердца и усилившийся, почти ликующий шепот в стенах:
"…Петкö… чужак петкö… чом петкö… кутчысьны…" (Пришел… чужак пришел… тьма пришла… платить…)
Глава шестая
Сердце колотилось как бешеное, вдавливаясь ребрами в холодные бревна стены. Дыхание рвалось свистящими рывками. Алексей стоял, прислонившись к двери своей избы, слушая не только бешеный стук крови в висках, но и этот шепот. Он был громче, настойчивее, почти торжествующий после встречи в церкви: "Петкö… чужак петкö… чом петкö… кутчысьны…" (Пришел… чужак пришел… тьма пришла… платить…). Слова Онысь, вырванные зельем Глафиры из-под земли, теперь жили в стенах его временного пристанища. Идея остаться здесь еще на одну ночь, слушая это, была немыслимой. Паника гнала его прочь. Туда, где свет, голоса, люди. Даже если эти люди – Егорыч и компания.
Клуб. Последнее прибежище хоть какой-то псевдонормальности в этом безумии. Там горит свет. Там говорят (пусть пьяные) люди. Там есть Васёна с ее адским самогоном, который хотя бы притуплял края реальности.
Он вывалился на улицу. Туман сгущался, превращаясь в холодную, мокрую пелену, затягивающую деревню. Из клуба струился желтый, тусклый свет и доносился гул голосов – хриплых, перебивающих друг друга. Алексей почти бежал, спотыкаясь в грязи, чувствуя спиной холодный, немигающий взгляд церкви и того… существа, что оставило знак у его порога.
Толкнув скрипучую дверь, он ввалился внутрь. Тепло, запах табака, перегара, жареного жира и вездесущей гнили ударили в лицо, почти физически отталкивая сырость и ужас снаружи. В клубе было набито битком. Мужики сидели за столами, курили, пили из граненых стаканов и кружек. Василиса Крохалева возвышалась за стойкой, помешивая что-то в своем вечном котле. Пахло еще резче, слаще – самогон уже тек рекой.
И в центре этого пьяного ада бушевал Егорыч.
Он сидел за центральным столом, развалившись, как поверженный медведь. Его обезображенное ожогом лицо было багровым, единственный зрячий глаз мутен и дик. Перед ним стояла полная до краев кружка самогона. Он что-то орал хриплым басом, стуча кулаком по столу, разбрызгивая мутную жидкость. Мужики вокруг поддакивали, смеялись, но в их смехе слышалась нотка напряжения. Даже Васёна смотрела на него с редкой настороженностью.
– …и нехуй тут, блядь! – ревел Егорыч, увидев входящего Алексея, но не обращаясь конкретно к нему. – Нехуй ковыряться! Шудтасны (забыли) уже, как надо жить! Пиздят сказки про Яг-Морта, про Онысь! А чой-то настоящее под носом забыли! Проклятые шахты! Там ныр живая! Кровь земли! А вы… – он ткнул пальцем в сторону других мужиков, – боитесь! Как бабы! Чумья не спит! Она шумит! Она требует! А вы самогонку жрете да про лешего пиздите!
Алексей протиснулся к стойке. Васёна, не спрашивая, налила ему полный стакан мутной, маслянистой жидкости. Ее заплывшие глазки смотрели на него без обычного презрительного любопытства – с усталым пониманием.
– На, выпей. Видок-то у тебя… как у ныр (у мертвеца), – буркнула она. – Егорыч сегодня… весь (злой). Шахты вспомнил. Не к добру.
Алексей кивнул, благодарный даже за это. Он залпом хлебнул самогона. Огонь прожег горло, разлился по телу, почти мгновенно начиная затуманивать сознание. Слава богу. Туман в голове был лучше ясности, открывающей чудовищ.
– А чего требует-то, Егорыч? – крикнул кто-то из мужиков, явно поддразнивая. – Самогонки? Или бабу?
Егорыч медленно повернул к нему свою страшную багровую башку. В его единственном глазу вспыхнула дикая, нечеловеческая ярость.
– Чего требует? – прошипел он так тихо, что гул в клубе на мгновение стих. – Пельöс (часть) требует! Кусок живого! Чтоб не забывали, блядь! Чтоб помнили, кто тут керка (хозяин)! Мы копали! Мы ее разбудили! А теперь… теперь она голодная! И шумит! Каждую ночь! Слышите?!
Он вскочил, опрокинув скамью с грохотом. Его огромная, перекошенная фигура затряслась.
– Слышите, как она там, в глубине?! Ломом по железу! По камню! ШУ-У-УД! (Шум!) Это она! Чумья! Она хочет… ВЫЛЕЗТИ!
Последнее слово он выкрикнул так, что с потолка посыпалась штукатурка. В клубе повисла мертвая тишина. Даже Васёна замерла с половником в руке. Самогон в стаканах перестал пузыриться. Лица мужиков стали землистыми, глаза расширились от не притворного, а животного страха. Они слышали этот скрежет. Все слышали. И Егорыч, бывший шахтер, знавший подземный ад не понаслышке, только что назвал источник этого ужаса.
Алексей почувствовал, как его собственная тошнота от самогона смешивается с холодным ужасом. Скрип под церковью… Это был тот же звук? Чумья? Злобный дух шахт? Его требование "части"? Части от кого? От деревни? От… него?
Егорыч тяжело дышал, смотря на перепуганные лица. В его взгляде мелькнуло что-то – не триумф, а горькое удовлетворение от того, что он наконец выкричал эту правду. Он схватил свою кружку и залпом осушил ее. Потом с силой швырнул глиняный горшок на пол. Он разбился с оглушительным треском.
– А вы боитесь! – он снова заревел, но уже с пьяной истерикой. – Боитесь, как зайцы! А я? Я видел! Видел, как она…
Он замолчал, его взгляд стал расфокусированным, уходящим в прошлое. Он провел корявым пальцем по страшным шрамам на лице и шее.
– Не медведь… не Яг-Морт… чой-то… из камня… из тьмы… теплое… скользкое… ныр… – голос его сорвался. – Ыджыд Из ловзи (Старая Гора видела)… Она видела…
Он вдруг зарыдал – громко, нелепо, по-пьяному, уткнувшись лицом в грязный рукав телогрейки.
– Кутчысьны кыдз… (Платить надо… всегда…)
Эта пьяная истерика гиганта, его обрывки фраз, полные нечеловеческого ужаса, подействовали на Алексея сильнее любых вразумительных слов. В них была та же искренность, что и у Степана, но смешанная с болью и травмой. Егорыч видел. И это сломало его.
Васёна тяжело вздохнула.
– Ну все, докатился. Нализался до чертиков. Прокоп, Мирон – тащите его домой. Да привяжите, чего доброго, к печке полезет или в шахту пойдет…
Двое мужиков, бледные, но послушные, поднялись и, осторожно обходя разбушевавшегося гиганта, попытались взять его под руки. Егорыч зарычал, замахнулся, но силы уже покидали его. Он тяжело осел на лавку, бормоча что-то невнятное про "ныр" и "шуд".
Алексей допил свой стакан. Мир поплыл. Страх, усталость, ужас последних часов, адский самогон – все смешалось в тягучую, мутную кашу. Он чувствовал себя вывернутым наизнанку. Рациональный мир рухнул, оставив его в центре первобытного кошмара, где земля поет, стены шепчут, а шахты стонут от голода древнего духа. Он опустил голову на липкий от жира и спиртного стол. Просто переждать. Переждать эту ночь…
И тут он услышал их.
Сначала – тихое бульканье. Потом – гнусавое, неразборчивое бормотание. Он поднял голову. У печки, в тени, сидели Петька и Сенька. Они не смеялись, не тыкали пальцами. Они сидели, прижавшись друг к другу, их уродливые лица были странно сосредоточены. Петька держал перед собой что-то маленькое, темное – похожее на ту куклу, что висела у двери Глафиры. Сенька, с его волчьей пастью, шевелил губами.
Они начитывали. Тихо, монотонно, на гортанном коми-пермяцком. Тот же скорбный напев, что пели Онысь в тумане и под полом у Глафиры.
"Ыджыд Из, кодь тулысь…"
(Старая Гора, отец-огонь…)
Алексей замер. Самогонный туман в голове слегка рассеялся, уступая место новому ужасу. Это было не похоже на детскую игру. Это было слишком серьезно. Слиточно ритмично. Слиточно… правильно.
Мужики за столом перестали перешептываться. Васёна перестала помешивать котел. Даже Егорыч притих, его тяжелая голова повернулась в сторону мальчишек. В клубе снова воцарилась тишина, но теперь она была напряженной, ожидающей. Только монотонное бубнение Сеньки и подголоски Петьки заполняли пространство.
"Кывзы миян сьыланкывсö…"
(Услышь нашу песню-плач…)
Лампочка под потолком, и так тусклая, начала мигать. Тени на стенах – от мужиков, от Васёны, от поленьев у печки – стали неестественно вытягиваться, сгущаться. Они двигались не от колебания света, а сами по себе, сливаясь в одну большую, зыбкую черную массу, которая колыхалась в такт начитыванию. Воздух сгустился, стало тяжело дышать. Запах самогона и жира перебило запахом влажной земли и… озона? Как перед грозой?
"Водзö ми пуксим чужйиснысö…"
(Прежде чем мы станем костями…)
Алексей почувствовал знакомую вибрацию – слабую, идущую сквозь пол, сквозь лавку, в его кости. Тот же гул, что был у Глафиры. Онысь. Они отвечали. Они были здесь. В клубе. В стенах. Под полом. В тенях. Глаза мужиков стали стеклянными, пустыми. Васёна крепче сжала свою палку, ее лицо покрылось испариной. Егорыч застонал, прижимая руки к обезображенному лицу.
Петька поднял куклу выше. Сенька усилил голос, его гнусавое бормотание стало громче, пронзительнее, заполняя клуб, вытесняя все остальные звуки. Тени на стене сомкнулись в одну огромную, аморфную тень, которая начала пульсировать в такт словам.
"Ачид миянлы сет…"
(Дай нам… [далее неразборчиво, сливается в жуткий горловой звук])
Алексей не расслышал последнее слово. Оно потонуло в нарастающем гуле, который шел уже не из-под пола, а со всех сторон. Из стен. Из углов. Из самого воздуха. Тот же скорбный рев Онысь, что обрушился на него в избе Глафиры, но теперь – многократно усиленный, наполненный нечеловеческой силой. Лампочка погасла, потом вспыхнула с ослепительной яркостью, осветив застывшие в трансе лица жителей Ыджыд-Войвыра и две маленькие, уродливые фигурки у печки, слившиеся с пляшущими тенями.
И в этот миг Алексей увидел. Не глазами. Где-то внутри, сквозь самогон и ужас. Он увидел, что Петька и Сенька – не просто уродливые пацаны. Они были… проводниками. Маленькими жрецами этого места. Их начет – не детская игра. Это был ключ. Ритуал. Призыв.
И последнее, что он услышал перед тем, как гул достиг апогея и лампочка погасла окончательно, погружая клуб в кромешную тьму, прорезанную лишь отблесками тлеющих углей в печке, был голос Сеньки, сорвавшийся на визгливый, торжествующий вопль:
"…СЕТ ВОЙ!" (…ДАЙ СИЛУ!)
Тьма сомкнулась. Гул стих так же внезапно, как начался. В кромешной тишине было слышно только тяжелое, прерывистое дыхание десятка людей и тихий, довольный булькающий смех "мальчиков" где-то в углу.
Алексей сидел в темноте, обхватив голову руками. Самогон не помог. Ужас был здесь. Внутри клуба. Внутри него самого. И ритуал только что закончился. Чем? Он не знал. Но знал одно: Чумья голодна. Онысь активны. И он, Алексей Гордеев, был частью этого. Частью корма. Частью платы. Частью Ыджыд-Войвыра.
И Старая Гора видела его. Всегда.
Глава седьмая
Тьма в клубе была не просто отсутствием света. Она была плотной, живой, пропитанной запахом перегара, пота и недавнего мистического ужаса. Гул Онысь отступил, оставив после себя звенящую, гнетущую тишину, разрываемую лишь тяжелым дыханием мужчин и довольным хихиканьем "мальчиков" где-то в углу. Алексей сидел, обхватив голову руками, пальцы впивались в виски. Самогон не притупил ужас – он лишь смешал его с тошнотой и головокружением, создав ядовитый коктейль отчаяния. Слова Егорыча о "части", рев духов, ритуальное начитывание Петьки и Сеньки – все слилось в один оглушительный звон в ушах. Он был в ловушке. В центре живого, дышащего кошмара. И Старая Гора не сводила с него своего незримого взгляда.
Вдруг лампочка над стойкой мигнула раз, другой и зажглась снова, тускло и ненадежно. Свет, казалось, не рассеял тьму, а лишь подчеркнул ее густоту в углах. Мужики молча поднимались, избегая взглядов, лица серые, потные. Егорыча куда-то увели. Васёна тяжело вздыхала, начиная убирать осколки разбитой кружки. Петька и Сенька уже исчезли, словно растворились в тенях. Алексей почувствовал себя лишним, пятном на этой грязной, пропитанной страхом реальности. Он должен был уйти. Куда угодно. Только не оставаться здесь.
Он вывалился на улицу. Туман был еще гуще, холоднее, цеплялся за кожу ледяными пальцами. Свет из клуба не пробивал его и на метр. Алексей замер, дезориентированный. Дорога к его избе была где-то… направо? Или налево? Весь Ыджыд-Войвыр превратился в серый, безликий лабиринт ужаса. Он сделал несколько шагов, спотыкаясь о невидимые кочки, чувствуя, как паника, сдерживаемая в клубе, снова поднимается комом в горле. Онысь петасны… (Духи приближаются…) – эхом отозвалось в памяти.
– Алексей?
Голос был тихим, чистым, как колокольчик в этом сыром мраке. Он заставил его вздрогнуть и обернуться.
Из тумана, как призрак, выплыла Анфиса. Она стояла в нескольких шагах, завернутая в ту же серую шаль, лицо бледное, огромные темные глаза смотрели на него с… беспокойством? Или знанием?
– Вы… – он поперхнулся. – Как вы нашли меня?
– Я видела, как вы вышли из клуба, – ответила она просто, шагнув ближе. От нее пахло дымком печи и чем-то свежим, можжевеловым – резкий контраст с миазмами клуба и всеобщей гнилью. – Вы выглядите… плохо. Как будто видели чом (тьму) лицом к лицу.
– Ага, – хрипло усмехнулся Алексей. – И не раз. Ваши "мальчики"… они там… – он не смог закончить. Как описать то начитывание, пульсацию теней, гул?
– Петька и Сенька, – Анфиса кивнула, в ее глазах мелькнула тень той же усталости, что была у Васёны и даже у Глафиры. – Они… чувствительные. Особенно к Онысь. Иногда они… проводят их голос. Не со зла. Так здесь бывает.
Она посмотрела ему прямо в глаза.
– Вы дрожите. И замерзли. Пойдемте… ко мне. Ненадолго. У Марфы печка топится. Там… теплее.
Предложение было неожиданным. И опасным. После предупреждений, после леденящего взгляда Степана, после церкви и Тени… Идти в дом к единственной "нормальной", которая, как он все больше понимал, была такой же частью этого кошмара, как и все? Но альтернатива – блуждать в тумане, слушая шепот в стенах собственной избы или, что хуже, натыкаясь на свежие спирали и отпечатки когтистых лап… Мысль о тепле, о простом человеческом присутствии (пусть и сомнительном) перевесила.
– Да, – пробормотал он. – Спасибо.
Они шли молча, Анфиса вела его уверенно, будто видела сквозь туман. Ее изба оказалась чуть в стороне, чуть опрятнее других. Внутри пахло дровами, вареной картошкой и лекарственными травами. Было чисто, просто. В углу, на широкой лавке, под грудой одеял сидела Марфа – старая, слепая и немая, как и говорили. Ее сморщенное лицо было обращено в пустоту, но когда они вошли, она повернула голову в их сторону, будто почувствовала. Ее пустые глазницы казались бездонными колодцами.
– Бабушка, это я, и… гость, – тихо сказала Анфиса, подходя к печке и подбрасывая полено. Огонь весело затрещал, отбрасывая теплые блики на стены. Алексей почувствовал, как лед в его жилах начинает таять. Физически. Но страх сидел глубже.
Он сел на табурет у стола, Анфиса поставила перед ним глиняную кружку с горячим, горьковатым чаем из трав. Он пил, чувствуя, как тепло разливается по телу, а дрожь понемногу утихает. Они молчали. Только треск дров в печи и тихое, поверхностное дыхание Марфы нарушали тишину. Алексей смотрел на Анфису. При теплом свете огня ее бледность казалась не такой мертвенной, черты лица – мягче. Но в огромных глазах по-прежнему жила глубокая печаль и… понимание.
– Почему? – спросил он наконец, тихо. – Почему вы предупреждали меня? Почему… привели сюда? Разве Степан… или они… – он кивнул в сторону окна, в серый мрак, – не против?
Анфиса вздохнула, обхватив руками свою кружку.
– Степан… он знает, что я здесь. Он знает все, что происходит в деревне, – она посмотрела на пламя. – А насчет предупреждений… – она горько усмехнулась. – Наивность. Желание верить, что кто-то может уйти. Как когда-то…
Она запнулась.
– Вы не первый чужак, Алексей. И не последний. Но сейчас… сейчас все иначе. Онысь активны. Ыджыд Из (Старая Гора) шевелится во сне громче. Чумья голодна. Ваше появление… оно как камень в стоячее болото.