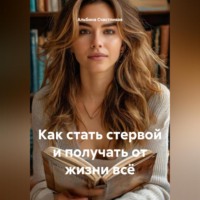Полная версия
Шепот старой горы

Альбина Счастливая
Шепот старой горы
Пролог

Урал спит. Не тем сном, что лечит усталость, а древним, каменным сном, полным скрытых движений и невысказанных мыслей. Сны Старой Горы – Ыджыд Из – тяжелы. Это сны о времени, когда камни были мягкими, а по склонам струилась не вода, иная субстанция, теплая и живая. Сны о первом дыхании, о первом голоде.
И в этих снах есть место для мелких, мимолетных существ, что копошатся у ее подножия. Муравейники из бревен и страха, что зовут себя деревнями. Ыджыд-Войвыр – один из таких. Прилепился к каменному боку, как лишайник, и тянет из земли скудную жизнь, стараясь не потревожить того, что дремало здесь задолго до него.
Но земля помнит. Помнит копыта каменных оленей, помнит шелест каменных же крыльев, помнит вкус первой крови, пролитой в жертву. И время от времени она просыпается. Не вся – краешком сознания. И тогда из шахт, что как черные раны зияют в ее плоти, доносится скрежет. По ночам в тайге слышится топот, слишком тяжелый для медведя, а в реке Войвыр, черной и медленной, будто кто-то безглазый и холодный смотрит со дна на лунный серп.
Старая Гора видит. Чувствует. Помнит. И требует, чтобы и другие помнили. Чтобы боялись. Чтобы платили.
А в далеком Петербурге, в душной комнате студенческого общежития, молодой человек по имени Алексей Гордеев листает пожелтевшие страницы полевых дневников. Он ищет тему для диссертации. Что-то уникальное, неизбитое. Его взгляд падает на карандашную пометку на полях: «Коми-пермяцкие верования, дер. Ыджыд-Войвыр. Анимизм, пережитки культа предков, возможные архаичные практики».
Он не знает, что эта пометка – не научное наблюдение. Это приглашение. Ключ, вставленный в скважину древней, покрытой плесенью двери.
Он не слышит, как в такт шелесту страниц в тысяче километров к востоку шепчут стены полуразрушенных изб. Не видит, как в черной воде реки Войвыр колышется отражение не его лица, а чего-то старого и голодного. Не чувствует, как на него ложится тяжелый, каменный взгляд Спящей Горы.
Алексей закрывает книгу. Решение принято. Ыджыд-Войвыр. Идеально.
Где-то в глубине, в черноте затопленной шахты, с сухим треском ломается прогнившая балка. Где-то на краю деревни старик с лицом, изрытым оврагами морщин, поднимает голову и смотрит на запад, своим единственным черным глазом видя то, чего видеть нельзя. Где-то в избе, увешанной сушеными травами и страшными куклами, худая, как скелет, женщина беззвучно смеется, помешивая варево в котле.
Дверь приоткрылась. Чужак идет.
И Старая Гора во сне пошевелилась, готовясь к новой трапезе.
Глава первая
Дорога кончилась внезапно. Вернее, она не кончилась – она растворилась в грязи, хлюпающей под колесами видавшей виды «буханки» УАЗика, как густая, холодная похлебка. Алексей Гордеев прижался лбом к ледяному стеклу, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь завесу ноябрьского тумана и брызг грязи. Тайга стояла стеной по обе стороны от колеи – темная, мокрая, непроницаемая. Ели и пихты, увешанные седыми бородами лишайника, смыкали ветви над дорогой, превращая ее в туннель. Свет фар тонул в этой сырой мгле, не пробиваясь дальше пары десятков метров.
– Ыджыд-Войвыр, – прошептал Алексей, сверяясь с потрепанной распечаткой карты на коленях. Название звучало чуждо, тяжело, как камень, брошенный в черную воду. Большое Верхнее Болото. Поэтично, блин. Именно сюда, в эту пермскую глухомань, он, аспирант кафедры этнографии СПбГУ Алексей «Леха» Гордеев, засунул свою задницу ради «уникального материала» для диссертации. «Трансформация дохристианских верований коми-пермяков в условиях современности». Звучало солидно. Сейчас же солидность катилась куда-то под сиденье вместе с пустой пластиковой бутылкой от дешевого энергетика.
Водила, мужик лет пятидесяти с лицом, напоминающим смятую папиросную пачку, хрипло захохотал, выруливая в очередную колдобину, от которой у Лехи стучали зубы.
– Ну что, студиозус, докатился? – спросил он, выпуская клуб едкого сигаретного дыма. – Ыджыд-Войвыр, мать его! Край света, блядь. Дальше – только медведи да Яг-Морт по грибы ходит.
Леха натянуто улыбнулся. «Яг-Морт» – Лесной Человек, местный аналог йети. Колорит. Вот и первый фольклорный экспонат.
– Медведей много? – поинтересовался он для приличия.
– Медведей? – водила фыркнул. – Да нихуя нынче. То ли повывелись, то ли… – он многозначительно понизил голос, – чой-то их спугнуло. А вот Чумья, говорят, не спит. В старых шахтах ворочается. Ты шахты наши видел? Рядом. Заброшенные. Пиздец как страшно, мужик. Туда даже наши дураки не лезут. Онысь не любят, когда тревожат.
Леха кивнул, записывая в блокнот: «Чумья? Онысь?» Сленг, диалектизмы, суеверия – все в копилку. Хотя «пиздец как страшно» звучало слишком уж искренне.
– А люди тут нормальные? – не удержался он.
Водила резко затормозил, едва не отправив Леху лбом в лобовое стекло. УАЗик встал посреди грязевого месива. Туман за стеклом сгустился.
– Люди? – водила обернулся. Его маленькие глазки, красные от бессонницы и самогона, сверлили Леху. – Люди тут… свои. Чужаков не жалуют. Особенно умников с блокнотиками. Степан Пыстин – наш старшак – он тебе объяснит. Если захочет, – он ткнул грязным пальцем вперед, в белую муть. – Вон она, ваша помойка. Дальше не поеду. Мост хлипкий, да и… не люблю я это место. Как-то не тянет отсюда.
Леха расплатился, добавив за риск и «экстрим». Водила сунул купюры в карман, не глядя, и тут же рванул с места, разбрызгивая фонтаны грязи. УАЗик растворился в тумане и хлюпанье глины, оставив Леху одного на краю мира.
Тишина.
Она обрушилась на него, тяжелая, влажная, почти осязаемая. Ни гула мотора, ни ветра – только мерзкое хлюпанье грязи под ногами да редкие капли, падающие с мокрых ветвей. Туман лизал кожу холодными языками. Леха натянул капюшон, поправил рюкзак и шагнул вперед по шаткому бревенчатому настилу, заменявшему мост через черную, едва движущуюся речушку. Войвыр Ю, – вспомнил он. Дух реки. Глупость. Но вода и правда была черной, как нефть, и от нее несло тиной и чем-то… прелым. Гнилым.
Деревня открылась ему постепенно, как проступающее на мокрой бумаге пятно. Полуразрушенные избы, почерневшие от времени и влаги, стояли вдоль одной кривой улицы, утопавшей в грязи. Кривые, покосившиеся окна смотрели на него, как слепые глазницы. Ни огонька, ни дыма из труб. Казалось, здесь давно никто не жил. Лишь где-то вдалеке маячил чуть менее обшарпанный барак – бывшая колхозная контора, теперь, по словам водилы, «клуб».
Леха почувствовал, как по спине пробежал холодок. Не от страха – от глухой, тоскливой безнадеги этого места. И от абсолютной тишины. Ни лая собак, ни детских криков, ни скрипа дверей. Только его собственные шаги по грязи и мерзкое бульканье воды под мостками.
Он сделал еще пару шагов по улице, оглядываясь. И тут заметил его.
Мужик стоял в тени крайней избы, прислонившись к гнилому срубу. Высокий, кряжистый, одетый в промасленную телогрейку и рваные ватные штаны, заправленные в резиновые сапоги. Лицо было скрыто глубоким капюшоном и тенью, но Леха почувствовал на себе тяжелый, недобрый взгляд.
– Чего припёрся? – голос прозвучал неожиданно громко, хрипло, как скрежет по камню. Мужик сдвинул капюшон.
Леха едва сдержал вздох. Лицо было обезображено страшным старым ожогом, стянувшим кожу на левой щеке и шее в багровые, блестящие рубцы. Глаза, маленькие и свинцово-серые, смотрели с туповатым, но пронизывающим любопытством. Одно плечо было заметно выше другого, придавая фигуре гротескную кривизну. Урод, – мелькнула мысль с неожиданной жестокостью.
– Здравствуйте, – Леха попытался улыбнуться, чувствуя, как лицо деревяннеет. – Я Алексей Гордеев. Этнограф. Из Питера. Приехал… изучать местные обычаи. Верования.
Мужик молчал, жуя губами. Потом сплюнул густой желтой слюной в грязь у своих сапог.
– Этнограф? – переспросил он, коверкая слово. – Значит, учёный? – В его голосе прозвучало откровенное презрение. – Верования? Хуйня все это. Сказки.
– Все равно интересно, – настаивал Леха, доставая блокнот. – Может, подскажете, где тут можно переночевать? И где найти Степана Пыстина?
Мужик хрипло рассмеялся. Звук был похож на треск сухих веток.
– Степан? Он тебя сам найдет, коли захочет. А ночевать? – он мотнул головой в сторону деревни. – Избы пустые. Выбирай любую. Только не удивляйся, если шыпиньыс (шептуны) в стенах спать не дадут.
Он усмехнулся, обнажив редкие желтые зубы.
– Меня звать Егорыч. Заходи в клуб, коли страшно станет. Васёна накормит. Только самогону ее не пей – крышу снесет, да и не только крышу.
Он опять хрипло засмеялся и, не попрощавшись, развернулся и заковылял прочь, его перекошенная фигура быстро растворилась в тумане между избами.
Леха остался один. Тишина снова сомкнулась над ним, но теперь она казалась иной. Насыщенной. Как будто за покосившимися ставнями, в черных провалах окон, кто-то притаился и молча наблюдал. Он глубоко вдохнул запах сырости, гнили и чего-то звериного, сладковато-тошнотворного. Пахнет мифами, – подумал он с горькой иронией. – Пахнет пиздецом.
Он выбрал избу чуть в стороне, чуть менее разваленную, чем остальные. Дверь, скрипя всеми суставами, поддалась после сильного пинка. Внутри пахло пылью, плесенью и холодным пепелищем. Одно крошечное окно едва пропускало свет. Мебели всего ничего – грубый стол, табуретка и разваливающаяся полка. В углу – печь-буржуйка, рядом охапка сырых дров. И кровать. Железная, с панцирной сеткой, проржавевшей и провисшей.
Леха сбросил рюкзак, сел на скрипящую кровать и достал диктофон. Нажал запись.
«День первый. Ыджыд-Войвыр. – Он помолчал, прислушиваясь к давящей тишине. – Местность… депрессивная. Население… колоритное. Первый контакт: Таксист и Егорыч. Физические аномалии Егорыча – ожог лица, искривление позвоночника. Таксист упоминал «Яг-Морт», «Чумью», «Онысь». Егорыч предупредил о «шептунах в стенах». Видимо, местный фольклорный фонд в порядке. Завтра – поиск старейшины, Степана Пыстина…»
Он выключил диктофон. Тишина снова стала абсолютной. Слишком абсолютной. Как будто сама деревня затаила дыхание. Леха встал, подошел к окну. Туман сгущался, превращая избы в серые призраки. Ни движения, ни звука.
И вдруг… тихий шорох. Прямо за стеной. Как будто кто-то осторожно провел ногтем по облупившейся штукатурке. Леха замер. Шорох повторился. Потом еще. И еще. Не один источник – несколько. Словно десятки маленьких, невидимых существ осторожно скребутся изнутри стен, перешептываясь на языке, которого он не понимал. Шыпиньыс…
Холодный пот выступил у него на спине. Рационализация сработала мгновенно: мыши. Старые дома. Сквозняк. Ерунда.
Но когда он лег на жесткую кровать, завернувшись в тонкое походное одеяло, шепот в стенах не стих. Он нарастал и ослабевал, как дыхание спящего великана. И сквозь него, едва различимо, пробивалось что-то иное. Словно далекий, монотонный напев. Несколько голосов. На незнакомом, гортанном языке. Кывзы миян сьыланкывсö…
Леха плотнее закутался, закрыл глаза и попытался думать о диссертации. О научной ценности. О рациональном объяснении. Но холодный, навязчивый шепот в стенах упорно заполнял пространство избы, напоминая, что он здесь чужой. И что деревня Ыджыд-Войвыр только начала с ним разговаривать.
Глава вторая
Сон не шел. Шепот в стенах то затихал до едва различимого шороха, то усиливался, превращаясь в навязчивое многоголосое бормотание. Алексей ворочался на скрипучей сетке, кутаясь в одеяло, которое казалось тонкой бумагой против сырого холода, пробиравшегося сквозь щели бревен. То ли реальный звук, то ли воображение, разыгравшееся от рассказов пьяного водилы и уродливого Егорыча, но он клялся, что слышал в этом бормотании отдельные слова, похожие на коми-пермяцкие: "ловзьö" (спит), "пуксьыны" (просыпаться)… и страшное "чом" (тьма). Рационализация – защитный механизм мозга – работала на износ: ветер в щелях, мыши, галлюцинации от усталости. Но холодный пот на спине был реален.
Наконец, за окном посветлело. Туман не рассеялся, он лишь стал гуще, молочно-серым, превратив мир за грязным стеклом в размытую акварель. Голод скрутил желудок. В рюкзаке – сухпаек, но мысль о еде в этой промозглой, шепчущей избе вызывала тошноту. Вспомнились слова Егорыча: "Заходи в клуб. Васёна накормит". Клуб. Бывшая контора колхоза. Там должны быть люди. Хоть какие-то.
Он выбрался на улицу. Воздух был ледяным и влажным, пахло прелой хвоей, гнилью и чем-то металлическим, как будто ржавчиной. Деревня в тумане казалась еще более нереальной и покинутой. Ни души. Лишь его шаги хлюпали по грязи, гулко отдаваясь в мертвой тишине. Он шел по направлению, указанному Егорычем, к чуть более крупному зданию в конце "улицы". Оно и правда напоминало контору: облупившаяся штукатурка, пара окон с мутными, кое-где забитыми фанерой стеклами, и тяжелая деревянная дверь, покосившаяся на петлях.
Из-под двери струился тусклый желтый свет и… доносились голоса. Низкие, хриплые, перебивающие друг друга. Алексей толкнул дверь. Скрип был таким громким и пронзительным, что голоса внутри мгновенно стихли.
Тепло ударило в лицо, смешанное с густым, тяжелым запахом: дешевый табак, перегар, жареный жир и что-то сладковато-приторное, отдающее гнилью. Комната была большой, но низкой, с закопченным потолком. Посредине – грубо сколоченные столы и лавки. У дальней стены – импровизированная стойка, за которой возвышалась… Василиса "Васёна" Крохалева.
Она была огромной. Не просто полной – монументальной. Заплывшее лицо с крошечными, как бусинки, глазками-щелочками покоилось на нескольких складках жира, сползающих на грудь, скрытую грязным, засаленным фартуком. Она опиралась на толстую палку, ее тяжелое дыхание свистело и клокотало, как неисправные меха. Возле нее на печке-буржуйке шипел и булькал огромный чугунный котел, откуда и валил тот самый сладковато-гнилостный пар.
За столами сидели человек пять мужиков. Все – в рваных телогрейках, ватных штанах, лица – изборожденные морщинами, землистые маски с пустыми или хитровато-прищуренными глазами. Они замерли, ложки с какой-то мутной похлебкой застыли на полпути ко ртам, и все пятеро уставились на вошедшего Алексея. Взгляды были недружелюбными, оценивающими, как скот на базаре.
– Ага, – прохрипела Василиса, ее маленькие глазки сверкнули с неприкрытым любопытством. – Чужак-то объявился! Говорил Егорыч, что какого-то ученого привезли. Ну, не стой у порога, проходи! АлякО (тепло) у нас, да? – Она ткнула палкой в сторону стола. – Садись, гостем будешь. Голодный, поди?
Алексей кивнул, стараясь не смотреть в котёл. Он выбрал место на краю свободной лавки, подальше от мужиков, чей немой осмотр продолжался. Ощущение было такое, будто он насекомое под лупой.
– Алексей Гордеев, – представился он, обращаясь к Василисе. – Этнограф. Приехал изучить местные верования, обычаи…
– Верования? – фыркнул один из мужиков, коренастый, с лицом, напоминающим треснувший булыжник. – У нас тут одно верование – чтоб сьöлöм (сердце) не болело да самогон не кончался! (Хриплый смех вокруг стола).
– Заткнись, Прокоп, – рявкнула Василиса, но беззлобно.
Она тяжело подошла к столу, принося миску. Внутри плескалась серая жижа с плавающими кусками неопознаваемого мяса и луковицами. Запах стал еще интенсивнее.
– На, ученый, ешь. Зэр (рыба) наша, с речки. Сытная.
Она поставила миску перед ним.
– Верования… хм. Ну, Степан Пыстин тебе про это лучше расскажет. Старейшина наш. Он у нас… специалист.
В ее голосе прозвучала странная нотка, которую Алексей не смог расшифровать – то ли уважение, то ли страх.
Алексей поковырял ложкой в похлебке. Вид и запах отбивали аппетит напрочь. Он сделал вид, что пробует.
– А где его найти, Степана?
– Сам найдет, коли надо, – буркнул тот же Прокоп. – Не торопись. У нас время… другое течет.
Дверь снова скрипнула. На пороге стояли "Мальчики" – Петька и Сенька. Петька, хромой, опирался на кривую палку. Сенька, с незаращенной волчьей пастью, скалился в уродливой улыбке, обнажая кривые зубы. Оба – в пропитанных грязью лохмотьях, лица перемазаны сажей и чем-то бурым.
– Чу-у-жак! – просипел Сенька, гнусавя так, что слова путались. – Пришел! Учоныыы! (Они оба захихикали булькающим, неприятным смехом).
– Ага, пришел, – подтвердил Петька, ковыляя ближе. Его глаза, маленькие и невероятно живые, бегали по Алексею, по его рюкзаку, по миске. – Чего записываешь? Сказки? Про Яг-Морта? Про пырныш (ведьму) Глашку? Она в печке детей варит, да?
Сенька снова булькнул смехом.
– Петька! Сенька! – рявкнула Василиса, но без настоящей злости. – Не пужай гостя! Иди, ешьте, хулиганы!
Мальчишки шмыгнули к стойке, схватили по куску черного хлеба и уселись на пол у печки, не сводя с Алексея хищных, любопытных глаз. Они что-то тихо шептались, тыкая пальцами в его сторону и снова заливаясь своим булькающим смехом. Алексей почувствовал, как по спине снова побежали мурашки. Не от страха, а от глубокой, инстинктивной неприязни.
– Самогонки хошь? – Василиса поставила перед ним граненый стакан, до краев наполненный мутной, маслянистой жидкостью с резким, едким запахом сивухи. – Согреешься. У нас тут, небось, холодно после Питера-то?
Алексей колебался. Он не был большим любителем, но холод проник в кости, а напряжение требовало разрядки. К тому же, это могло быть "вхождением в доверие". Этнографический метод. Он кивнул.
– За местные обычаи, – пробормотал он и отхлебнул.
Огонь ударил в горло, пополз в желудок, разливаясь волной тошнотворного тепла. Глаза застилало слезами. Это была не просто водка – это был дистиллят ада. Мужики за столом одобрительно загудели.
– Ну как? – ухмыльнулась Василиса. – Енöш (крепко), да?
– Крепко, – Алексей прочистил горло, пытаясь прогнать тошноту. – Очень.
Он сделал еще глоток, поменьше. Тепло разливалось по телу, притупляя остроту восприятия. Шепот в стенах избы отступил на задний план. Даже уродливые лица мужиков и зловещий булькающий смех мальчишек у печки казались менее отталкивающими. Он достал диктофон, поставил его на стол.
– Может, расскажете что-нибудь? Легенды? Про Яг-Морта? Или про эти… шахты? – Он кивнул в сторону окна, за которым туман скрывал все, кроме ближайших изб.
Мужики переглянулись. Прокоп хмыкнул.
– Шахты? Там чом (тьма). И шуд (шум). По ночам скребется. Как будто… – он понизил голос, – кто-то ломом по железу бьет. Из глубины. А раньше…
Он замолчал, отхлебнул из своей кружки.
– Раньше люди работали, – подхватил другой, тощий, с лицом летучей мыши. – Уголь копали. Да только не вышло. Говорят, не уголь там был… а ныр живой. Земляная кровь. Проклятое место. Чумья там хозяйка. Дух. Злой. Выпустили ее, когда копали глубже, чем надо.
– Выпустили? – переспросил Алексей, включая диктофон.
– Ага, – кивнул Прокоп. – Старики говорят. Она спала. А ее разбудили. Теперь не спит. Требует.
Он многозначительно посмотрел на Алексея.
– Чего требует?
– Пельöс (часть), – хрипло сказал мужик с лицом летучей мыши. – Часть от живых. Чтоб не забывали. Чтоб боялись.
В клубе снова повисла тишина. Даже мальчишки у печки притихли. Только бульканье котла и тяжелое дыхание Василисы нарушали ее. Алексей почувствовал, как тепло от самогона сменилось липким холодком под кожей. Этнографический интерес боролся с нарастающим дискомфортом. Они говорили слишком искренне для спектакля.
– А Яг-Морт? – спросил он, чтобы разрядить обстановку. – Его кто-нибудь видел?
– Егорыч видел! – вдруг просипел Сенька с пола у печки. – Ему морду и разодрал! Правда, Егорыч? – Он захихикал.
– Молчи, пасть! – рявкнул Прокоп, но было поздно.
Дверь клуба распахнулась с грохотом. На пороге стоял Егорыч. Он был мокрый, в грязи по колено, его обезображенное лицо было темно-багровым от злости или холода. Он тяжело дышал, его свинцовые глаза метали молнии.
– Чего брешешь, ублюдок?! – зарычал он, шагая к мальчишкам. – Я тебе щас пасть-то поправлю, сука! – Он занес огромную, корявую руку.
– Егорыч! – властно крикнула Василиса, стукнув палкой об пол. – Не балуй! Самогон хошь? Садись!
Егорыч замер, его грудь вздымалась. Он плюнул на пол, прямо перед перепуганными, но все еще хихикающими мальчишками, и грузно опустился на лавку напротив Алексея. Василиса налила ему полный стакан самогона. Он опрокинул его одним движением, не поморщившись, и хлопнул стаканом об стол.
– Чего тут, ученый, допытываешься? – спросил он, уставившись на Алексея своим единственным зрячим глазом. Взгляд был мутным, но невероятно тяжелым. – Сказки записываешь? А может, правду хочешь услышать?
Алексей почувствовал, как сжимается желудок. Самогон ударил в голову, мир слегка поплыл.
– Правду всегда интересно, – выдавил он.
Егорыч хрипло рассмеялся.
– Правда… она, блядь, кусается. Как та Чумья в шахте. Как Яг-Морт в лесу.
Он наклонился через стол, от него пахло дешевым табаком, потом и звериной немытой шкурой.
– Ты думаешь, мы тут для тебя спектакль разыгрываем? Уроды кривые, да? Страшилки рассказываем? – Он ткнул пальцем в свое обожженное лицо. – Это не спектакль, пид… студент. Это жизнь здесь. Ты в чужой жизни копошишься. А чужие жизни… они не любят, когда их ковыряют. Особенно эту жизнь.
Он мотнул головой в сторону окон, в серую муть тумана.
– Она тебя… заметила.
Тишина в клубе стала гробовой. Даже Василиса перестала помешивать варево в котле. Мужики замерли. Мальчишки перестали хихикать. Алексей почувствовал, как по спине ползет ледяная полоса. Не от слов, а от той абсолютной, животной убежденности, с которой их произнес Егорыч. От осознания, что в этом взгляде нет игры. Есть знание. И предупреждение.
– Самогонка, – пробормотал Алексей, отводя взгляд. Ему нужно было что-то сказать, сделать. Он допил свой стакан. Огонь снова обжег горло, но уже не согрел.
Егорыч усмехнулся, откинулся на лавке.
– На, Васёна, налей еще ученому! Пусть сьöлöм (сердце) не болит! – он громко захохотал, но в смехе не было веселья. Была горечь и что-то еще… триумфальное?
Алексей не стал отказываться. Новую порцию самогона он выпил быстрее. Туман в голове сгущался, сливаясь с туманом за окном. Голоса мужиков, снова заговоривших о чем-то своем (о сломанной ловушке, о плохом клеве у реки), доносились как сквозь вату. Шепот в стенах избы забылся, заменившись гудением в ушах. Даже зловещие слова Егорыча отступили, превратившись в размытое пятно тревоги.
Он смотрел на мутную жидкость в стакане. На отражение коптящей лампочки в потолке. И вдруг… в гул голосов вплелось что-то иное. Сначала тихое, едва слышное. Монотонное. Несколько голосов. Не здесь, в клубе. Откуда-то снаружи. Из тумана. Голоса пели. Или начитывали? На том же незнакомом, гортанном языке, который он слышал прошлой ночью в стенах. Тот же напев, что мерещился сквозь шепот.
"Ыджыд Из, кодь тулысь… Кывзы миян сьыланкывсö…"
Мелодия была простой, но бесконечно унылой. Похоронной. Она вползала в сознание, цеплялась за нервы. Алексей поднял голову. Мужики за столом притихли, прислушиваясь. Василиса замерла у котла. Даже Егорыч перестал жевать. На лицах не было удивления. Было… сосредоточенное внимание. Или ожидание?
– Что это? – прошептал Алексей, его язык заплетался от самогона.
Василиса медленно повернула к нему свое заплывшее лицо. В ее крошечных глазках не было ни страха, ни удивления. Была глубокая, древняя усталость.
– Онысь, – прохрипела она так тихо, что он едва расслышал. – Предки поют. Или земля. Петасны (Приближаются).
Она перекрестилась странным, нехристианским жестом – не от лба к животу, а от левого плеча к правому, касаясь пальцами рта.
– Кушай, ученый. Пока можешь.
Напев снаружи нарастал. Голоса сливались в один протяжный, скорбный стон, пронизывающий туман и стены клуба. Алексей сглотнул. Холодный пот выступил на лбу, смешиваясь с жаром самогона. Рационализация дала сбой. Это было слишком громко. Слишком реально. Слишком… направленно.
Он посмотрел в окно. В серой мути тумана ничего не было видно. Но он чувствовал. Чувствовал, что там, в этом молочном хаосе, что-то стоит. Много чего. И слушает. И поет. И ждет.