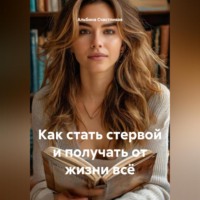Полная версия
Шепот старой горы
Диссертация внезапно показалась ему невероятно глупой и опасной затеей.
Глава третья
Утро после клуба встретило Алексея свинцовым небом и тем же нерассеявшимся туманом, цепким и холодным, как саван. Голова гудела адской кузницей – последствия самогона Васёны и бессонной ночи, наполненной пьяными страхами и тем жутким напевом из тумана. Онысь. Предки. Земля. Даже сквозь похмельный туман воспоминание о том скорбном, многоголосом стоне заставляло его кожу покрываться мурашками. Рационализация работала на пределе: массовая истерия, коллективный психоз, усиленный алкоголем и изоляцией. Но рациональная часть его сознания трещала по швам. Звук был слишком реальным.
Он выпил ледяной воды из походной фляги, пытаясь прогнать тошноту и остатки жуткого напева, впившегося в память. Сегодня – Степан Пыстин. Старейшина. Ключ ко всему. Или главный режиссер этого спектакля? Алексей снова достал диктофон. Батарея мигала тревожно. Он нажал запись.
«День второй. Похмелье. – Голос хриплый, надломленный. – Вчерашний вечер… клуб. Егорыч. Пьяные россказни о Чумье и шахтах. Самогон Васёны – оружие массового поражения. И… акустический феномен? Массовая галлюцинация? Некий групповой напев снаружи. Жители идентифицировали его как «Онысь» – духов предков или земли. Степень их веры… пугающе высока. Сегодня цель – найти Степана Пыстина. Центр местного… фольклорного культа?»
Он выключил диктофон. Тишина в избе казалась еще более зловещей после вчерашнего шепота и напева. Он быстро собрался, стремясь вырваться из этого сырого, пропитанного мифами узилища.
На улице грязь вязкая, как смола. Туман резал лицо ледяными иглами. Алексей двинулся туда, где, по словам Васёны, жил старейшина – на самый дальний конец деревни, у кромки леса. По дороге он решил подойти к реке – умыться, привести себя в порядок перед важной встречей. Войвыр Ю. Черная вода.
Он спустился по скользкому, глинистому спуску к берегу. Река текла медленно, почти незаметно, как густая нефть. Поверхность была гладкой, маслянистой, отражая серое небо бездонными черными пятнами. От нее несло холодом, сыростью и тем же сладковато-гнилостным запахом, что и в первый день. Алексей наклонился, зачерпнул горсть воды. Она была ледяной и… странно тяжелой. Он умыл лицо. Холод обжег, но не освежил. Ощущение липкой пленки осталось.
И тут он увидел ее.
Она стояла чуть поодаль, у самой кромки воды, где черная гладь реки сливалась с туманом. Высокая, стройная, в простом темном платье и серой шали, наброшенной на голову. Ее лицо, обращенное к реке, было бледным, почти прозрачным в этом сером свете. Но когда она услышала его шаги и обернулась, Алексей замер.
Анфиса. Он сразу узнал ее по описанию – единственная "нормальная" в этом царстве уродов. Но "нормальная" – не значит простая. Ее глаза. Огромные, темные, почти черные. Они смотрели не на него, а сквозь него, с таким глубоким знанием и печалью, что ему стало не по себе. В них не было ни любопытства, как у Васёны, ни тупой злобы, как у Егорыча, ни хищного интереса, как у "мальчиков". Была лишь бесконечная усталость и… предостережение.
– Вы не должны были приезжать, – сказала она.
Голос тихий, чистый, с едва уловимым акцентом, делающим русскую речь чуть певучей. Никакого грубого диалекта. Это было неожиданно.
Алексей опешил.
– Здравствуйте. Я… Алексей Гордеев. Этнограф. Изучаю…
– Знаю, – она перебила его мягко, но твердо. Ее взгляд скользнул по его лицу, будто читая его похмельные страдания и ночные страхи. – Все здесь знают. Чужак. Тулыс (весна) в Ыджыд-Войвыре приносит не ростки, а чужаков. И смерть. – Она отвернулась, снова глядя на черную воду. – Уезжайте. Пока можете.
– Почему? – Алексей шагнул ближе, чувствуя, как внутри закипает смесь возмущения и интереса. – Что здесь такого страшного? Стариковские сказки? Пьяные байки? Я приехал за правдой.
Анфиса медленно покачала головой, не глядя на него.
– Правда здесь… она не для бумаги. Она съедает. Как Войвыр Ю, – она кивнула на реку. – Смотрите в воду долго – и она позовет. Онысь петас (Духи рядом). Они всегда рядом. Особенно с тех пор, как вы приехали. Вы их разбудили.
Она повернулась к нему, и в ее темных глазах вспыхнул странный огонек – то ли страх, то ли упрек.
– Вы слышите их? Ночью? Шелест в стенах? Скрип половиц? Это не мыши. Это шыпиньыс. Они пришли с вами. Потому что вы… пырсьыны (тревожите) покой.
Алексей почувствовал, как холодеют руки. Она говорила о шепоте в его избе. Точь-в-точь. Как она могла знать?
– Я… слышал что-то. Дом старый, ветер…
– Ветра не было, – отрезала Анфиса. Ее голос стал жестче. – И шепот был не ветра. Он был их. И пение вчера… вы его слышали? Из тумана? Онысь сьылісны (Духи пели). Они поют, когда чуют… новое. Или смерть. Уезжайте. Сегодня. Степан Пыстин… он вам не поможет. Он их глас. Глас Старой Горы. И он не любит чужаков с диктофонами.
Она произнесла имя старейшины с таким холодным почтением, что по спине Алексея пробежал ледяной ручей. Прежде чем он успел что-то ответить, спросить, откуда она знает про диктофон, Анфиса резко развернулась и пошла вдоль берега, ее фигура быстро растворилась в серой пелене тумана, будто ее и не было.
Алексей стоял, ошеломленный, глядя в черную, безмолвную гладь реки. Ее слова висели в воздухе, тяжелые и необъяснимые. Как она узнала? Шепот? Пение? Диктофон? Рационализация буксовала: подглядывала? Подслушивала? Но как? И почему предупреждала? И этот взгляд… в нем была не враждебность, а почти… жалость.
Он с силой тряхнул головой, отгоняя наваждение. Анфиса – часть системы. Часть этого спектакля. Возможно, приманка. Красивая и загадочная, чтобы сбить с толку. Надо идти к Пыстину. К источнику.
Изба Степана Пыстина стояла на отшибе, вплотную к стене мрачного, непроницаемого леса. Она была чуть крепче других, но не менее мрачной. Темные, почти черные бревна сруба, низко нависающая крыша, покрытая мхом и пожухлой хвоей. Окна – узкие щели, затянутые мутной слюдой вместо стекол. Никаких украшений. Никаких признаков жизни. Только тонкая струйка дыма из кривой железной трубы.
Алексей постучал. Скрип двери прозвучал как стон. Она открылась сама, будто ее ждали.
Тепло и запах ударили в лицо. Не враждебные, как в клубе, а древние, густые: сушеные травы, смола, старая древесина, пыль веков и… что-то звериное, слабое, но устойчивое. Внутри было темно. Единственный источник света – тлеющие угли в небольшой каменной печи да слабый луч, пробивавшийся сквозь слюдяное окно. Тени плясали на стенах, покрытых странными, выцветшими узорами – не то оберегами, не то картами неведомых земель. Висели связки сушеных кореньев, пучки трав, пожелтевшие кости мелких зверьков.
И в центре этой полумрачной, дышащей древностью пещеры сидел он. Степан Пыстин.
Он был высоким и худым до костистости, сидел на низкой табуретке у печи, сгорбившись, как большая хищная птица. На нем был темный, грубый домотканый зипун. Лицо… Алексей едва сдержал вздох. Лицо было изрезано глубокими морщинами, как оврагами на высохшей земле. Они пересекали лоб, щеки, сбегали к беззубому рту. Но главное – глаза. Один глаз был мутно-белым, затянутым пеленой катаракты. Другой – черным. Не просто темным, а абсолютно черным, бездонным, как вода Войвыра. И невероятно живым, пронзительным. Этот единственный черный глаз уставился на Алексея с такой силой, что ему захотелось отступить.
– Заходи, чужак, – произнес Степан. Голос был сухим, тихим, как шелест опавших листьев под снегом, но он заполнил все пространство избы. – Ждали тебя. Ыджыд Из ловзі (Старая Гора видела), как ты шел.
Алексей шагнул внутрь, дверь скрипнула и захлопнулась за его спиной сама собой. Он почувствовал себя в ловушке.
– Здравствуйте, Степан… Степаныч? – он запнулся. – Я Алексей Гордеев. Этнограф. Из Питера. Приехал…
– Знаю, – перебил старик тем же сухим шелестом. Его черный глаз не моргал, изучая Алексея с ног до головы. – Диссер… диссертацию пишешь. По нашим сьылöм (верованиям). По старым богам. По Онысь.
Он произнес слово «боги» с легкой, горькой усмешкой.
– Садись.
Алексей опустился на грубую лавку у стены, напротив старика. Диктофон в кармане куртки казался вдруг смешным и бесполезным. Он чувствовал себя подопытным кроликом под взглядом этого черного глаза.
– Да, – подтвердил он, стараясь говорить уверенно. – Уникальный материал. Ваши легенды, обычаи… они мало изучены. Я хотел бы записать ваши рассказы, поговорить с жителями…
– Рассказы? – Степан медленно покачал головой. Морщины на лбу сдвинулись, как живые. – Легенды – для детей. И для чужаков. Туй (правда)… она не для записей. Она для видз (знания). Кровью и страхом. – Он замолчал, его черный глаз, казалось, просвечивал Алексея насквозь. – Ты слышал их? Вчера? Онысь сьылісны (Духи пели). Для тебя пели. Ты им… интересен.
Холодный ком сжался в горле Алексея. Анфиса говорила то же самое. Как они все знают?
– Я слышал… какой-то хор. Коллективное пение? Ритуал? – он попытался сохранить научный тон.
Степан издал звук, похожий на сухое потрескивание дров – смех?
– Ритуал? Да. Ритуал приветствия. И предупреждения, – он вытянул длинную, узловатую руку, указывая костлявым пальцем куда-то за стену, в сторону леса и гор. – Ыджыд Из (Старая Гора) спит. Но сны ее… тяжелые. Войвыр Ю (Река Войвыр) помнит все. Чумья в шахтах не спит. Яг-Морт голоден. А Онысь… они всегда рядом. Ты пришел копнуть му сьылöм (веру земли). Но земля здесь… она живая. И она чует чужое. Как рану, – его черный глаз сузился. – Ты рана, чужак.
Алексей почувствовал, как по спине струится холодный пот. Рационализация трещала: фанатик. Умный, харизматичный фанатик, держащий деревню в страхе. Но атмосфера в избе, этот пронизывающий взгляд, точность, с которой он говорил о пении… это било по нервам.
– Я не хочу никому вредить, – сказал он, и его голос прозвучал слабее, чем он хотел. – Я просто хочу понять. Записать. Сохранить.
– Сохранить? – Степан усмехнулся снова. – Мортлöн сьылöмыс (Человеческая вера) – тлен. Она меняется, как узор на воде. А вера земли… она вечна. Как камни. Как голод. Как страх.
Он медленно поднялся с табуретки. Его фигура, прямая и костлявая, казалось, доставала до черного потолка. Он подошел к Алексею. От него пахло сухими травами, дымом и… холодом древних камней.
– Ты хочешь записать? Записывай.
Он ткнул пальцем в грудь Алексею. Палец был холодным, как лед.
– Записывай вот это. Страх. Сомнение. Холод в животе, когда слышишь шепот в стенах. Гул в ушах, когда поют Онысь. Это и есть сьылöм (вера) Ыджыд-Войвыра. Не сказки. Не легенды. Ош видз (Чистое знание) страха перед тем, что сильнее тебя. Что было здесь до нас. И будет после.
Он наклонился, его черный глаз оказался в сантиметрах от лица Алексея. В глубине зрачка, казалось, мерцал отблеск далекого огня или бездонной тьмы.
– Пиши свою диссертацию, чужак. Правдиво. Пиши, что видел. Что слышал. Что чувствовал, – его шепот был ледяным ветром. – И помни: ты здесь не наблюдатель. Ты… пельöс (часть). Часть истории. Часть жертвы. Часть корма. Ыджыд Из ловзьö ветлö (Старая Гора шевелится во сне)… и видит тебя.
Степан выпрямился и беззвучно отошел обратно к печи, садясь на табурет. Разговор был окончен. Алексей сидел, ошеломленный, его сердце бешено колотилось. Он чувствовал себя опустошенным и… помеченным. Как будто холодный палец старика оставил невидимую метку на его груди.
Он встал, не говоря ни слова, и вышел в холодный, пропитанный туманом воздух. Дверь захлопнулась за его спиной с окончательным скрипом. Он стоял, глотая ледяной воздух, пытаясь прийти в себя. Рационализация кричала: "Сумасшедший! Фанатик!" Но голос был слабым. Гораздо громче звучали слова Степана: Ты рана. Ты часть. Старая Гора видит тебя.
А позади, в темной избе, Степан Пыстин сидел у тлеющих углей. Его черный глаз был неподвижен. На его изборожденном морщинами лице не было ни гнева, ни триумфа. Было лишь древнее, безразличное ожидание. Он медленно провел рукой по странному амулету из черненого металла и желтоватого зуба, висевшему у него на груди. Амулет был теплым.
Глава четвертая
Выход из избы Степана Пыстина был похож на бегство из склепа. Легкий, но пронизывающий холод, исходивший от старика, въелся в кости, и ледяной туман Ыджыд-Войвыра не принес облегчения, только сырость и тот сладковато-гнилостный запах, который теперь казался постоянным фоном этого места. Слова старейшины висели в голове Алексея тяжелыми, ядовитыми гроздьями: "Ты рана… Часть корма… Старая Гора видит тебя." Рационализация отчаянно цеплялась за версию тотального фанатизма под руководством харизматичного психопата, но черный глаз Степана, его ледяной палец и абсолютная уверенность в каждом слове подтачивали эту защиту. Алексей чувствовал себя помеченным. Зараженным.
Он брел по грязи, не глядя по сторонам, пытаясь упорядочить хаос в голове. Анфиса предупреждала. Степан подтвердил угрозу. Егорыч не скрывал враждебности. Даже Васёна и пьяные мужики в клубе говорили о здешних "хозяевах" с пугающей искренностью. Диссертация… мысль о ней сейчас вызывала лишь горькую усмешку. Какой дурак полез в этот ад за "уникальным материалом"?
Впереди, из серой пелены тумана, выплыла еще одна изба. Более покосившаяся, чем остальные, с провалившейся кое-где крышей. Окна были забиты тряпьем и кусками фанеры, лишь в одном зияла темная дыра. Но не это привлекло внимание. Дверь. Она была расписана. Вернее, испещрена странными, выцветшими знаками, нарисованными чем-то бурым, похожим на кровь или глину. Спирали, перекрещенные линии, схематические изображения глаз и… лап. Нечеловеческих лап. Перед дверью на колышке висели связки засохших трав и… маленькая, жутковатая кукла из глины и тряпок, с камешками вместо глаз.
Глафира Турунова. "Травница". "Пырныш" (ведьма), как ее назвал Егорыч. Та самая, что варит детей в печке, по версии "мальчиков". Пункт номер девять в его изначальном плане. "Защитное зелье". После встречи со Степаном эта идея уже не казалась такой абсурдной. Может, хоть какая-то защита от этого всепроникающего холода и чувства наблюдения?
Алексей постучал. Ответа не было. Он толкнул дверь. Она поддалась с жутким скрипом, словно кость по кости.
Запах ударил как кувалдой. Тысячелетняя пыль, прелая трава, гниющие коренья, что-то сладковато-приторное (грибы?) и подспудная нота звериной шкуры, не первой свежести. Свет проникал слабо – через дыру в окне и щели в стенах. И этого света хватило, чтобы Алексей замер на пороге, охваченный первобытным ужасом.
Изба была забита до отказа. Но не мебелью. По стенам, по потолочным балкам, на полках – везде висели связки сушеных трав, корешков, грибов, костей птиц и мелких зверьков. Они образовывали движущиеся, шуршащие завесы, колышущиеся от сквозняка. И повсюду сидели, висели, лежали куклы.
Десятки. Сотни? Они были везде. Из глины, обтянутой тряпками. Из веток, перевязанных бечевкой. Из корней, напоминающих скрюченные конечности. Из костей, скрепленных смолой. У некоторых были бусинки вместо глаз, у других – просто угольки или острые камешки. У третьих – пустые глазницы. Рты – прорези, оскалы, отсутствие рта вовсе. Одни были крошечными, с палец, другие – размером с младенца. Они сидели на полках, смотрели с балок, свисали с пучков трав, как страшные плоды. Их пустые или слишком пронзительные глазки-камешки, казалось, следили за ним со всех сторон. В углу, у печки-буржуйки, горел слабый огонек, отбрасывая гигантские, пляшущие тени кукол на стены, превращая их в чудовищ.
– Чего приперся? – прошипел голос, заставив Алексея вздрогнуть.
Из тени, из-за завесы сушеной крапивы и болиголова, выплыла Глафира. Она была худа. Не просто худа – скелетообразна. Выступающие ключицы, впалая грудь, руки – палки, обтянутые серой, пергаментной кожей с синеватыми прожилками. Пальцы – длинные, узловатые, с грязными, обломанными ногтями, казались с лишними суставами. Но больше всего пугали глаза. Огромные, навыкате, бегающие, как у загнанного зверя. Они не могли усидеть на месте, скача с Алексея на кукол, на тени, на дверь. Ее седые, жидкие волосы были собраны в небрежный пучок, из которого выбивались пряди. На ней – темное, грязное платье до пят, похожее на саван.
– Глафира Семеновна? – попробовал Алексей, стараясь не смотреть на ее пальцы, которыми она нервно теребила край платья. – Я Алексей… этнограф. Мне говорили, вы… разбираетесь в травах. Может, есть что успокоительное? От… страха?
Глафира фыркнула. Звук был похож на сухое шуршание мыши в стене.
– Страх? – она захихикала беззвучно, только плечи затряслись. – От страха тут не спасешься. Онысь везде. Чумья дышит. Шыпиньыс в стенах шепчут.
Ее бегающие глаза остановились на нем на мгновение, пронзительно.
– Ты их слышишь, да? В своей избе? Они пришли с тобой. Пырсьыны (тревожишь) их. И Старую Гору, – она вдруг резко шагнула вперед, ее костлявые пальцы схватили его за рукав. Прикосновение было холодным и сухим, как у мертвеца. – Ты ходил к Степану? Он тебя видел. Насквозь. Он знает. Теперь и Онысь знают.
Алексей едва не отпрянул. Она тоже знала! Как и Анфиса, как и Степан! Эта всеобщая осведомленность была жутче любого шепота.
– Знает что? – спросил он, стараясь вырвать рукав, но ее хватка была цепкой, как у хищной птицы.
– Знает, что ты чужой! – прошипела она, и ее дыхание пахло гнилыми кореньями. – И что ты… нужен. Для вежасьны (равновесия). Или для ныр (грязи).
Она затараторила, ее глаза бешено метались.
– Хочешь зелье? Успокоительное? Я дам. Но оно не от страха спасет. Оно… видз (знание) даст. Ты увидишь. Ты услышишь их яснее. Онысь. Может, и Чумью увидишь, если она близко… Ой, больно будет! Больно!
Она снова захихикала.
Мысль о "видении" и "знании" в исполнении Глафиры была откровенно пугающей. Но чувство загнанности, постоянного наблюдения, эта проклятая метка Степана – все это толкало на отчаянный шаг. Что может быть хуже?
– Дайте, – хрипло сказал Алексей.
Глафира отпустила его рукав и шмыгнула вглубь избы, ловко лавируя между пучками трав и свисающими куклами. Она что-то зашептала себе под нос, на смеси русского и коми-пермяцкого: "Менам тулыс, мича тулыс… сет миянлы видз… сет миянлы вой…" (Моя весна, добрая весна… дай нам знание… дай нам силу…). Она копошилась у печки, где стоял черный, закопченный горшок. Налила оттуда в глиняную плошку какую-то мутную, темно-зеленую жидкость, издававшую резкий, горький запах. Добавила щепотку порошка из рогатой скорлупы, каплю чего-то маслянистого из пузырька.
– На, – она протянула плошку. – Пей. Все. Сёй (съешь) знание.
Алексей взял плошку. Жидкость была теплой, почти горячей. Запах вызывал тошноту. Он посмотрел на Глафиру. Ее глаза бегали, на губах застыла странная, напряженная улыбка. Научный эксперимент, – подумал он с горькой иронией. На себе. Он зажал нос и выпил залпом.
Вкус был ужасен – горький, вяжущий, с металлическим привкусом. Жидкость обожгла горло, поползла в желудок, разливаясь волной тошнотворного тепла. Почти сразу голова закружилась, в ушах зазвенело. Картина перед глазами поплыла, краски стали неестественно яркими, а тени – гуще, чернее. Куклы на стенах будто ожили, их каменные глазки повернулись к нему.
– Ну как? – прошипела Глафира, ее лицо в пляшущем свете огонька казалось маской демона. – Чувствуешь? Видз петкö (знание приходит)?
Алексей попытался ответить, но язык не слушался. Вместо слов из горла вырвался стон. Он почувствовал, как пол под ногами стал… мягким. Нет, не мягким. Он стал вибрировать. Слабый, низкий гул, идущий из глубин. И сквозь этот гул… голоса. Не шепот в стенах. Голоса из-под пола. Из самой земли. Глухие, приглушенные, как будто доносящиеся сквозь толщу глины и камня. Множество голосов. Они пели. Тот же самый протяжный, скорбный напев, что слышался в тумане возле клуба. Но теперь он был ближе. Яснее. Он не просто звучал в ушах – он вибрировал в костях.
"Ыджыд Из, кодь тулысь… Водзö ми пуксим чужйиснысö…" (Старая Гора, отец-огонь… Прежде чем мы станем костями…)
Алексей схватился за голову. Звук нарастал, заполняя все пространство избы, его череп. Он видел, как Глафира шевелит губами, подпевая, ее глаза горят фанатичным восторгом. Видел, как тени кукол на стенах начали двигаться сами по себе, неестественно вытягиваясь, скрючиваясь. Вибрация пола усиливалась. Пыль сыпалась с балок. Горшок на печке задрожал.
– Онысь петасны! (Духи приближаются!) – воскликнула Глафира, не сводя с него безумного взгляда. – Кывзыны! (Слушай их!)
И Алексей слушал. И слышал. Не только напев. Теперь в нем прорезались слова. Отдельные фразы, обращенные к нему.
"…чужак… пельöс…" (чужак… часть…)
"…пуксьы…" (просыпайся…)
"…кутчысьны…" (платить…)
"…чом… вой…" (тьма… сила…)
Холодный ужас, чистый и неописуемый, парализовал его. Это не было галлюцинацией от зелья. Это было слишком реальным. Слишком физическим – эта вибрация пола, этот гул, пронизывающий все тело. Он почувствовал, как что-то холодное и тяжелое обвивает его лодыжки, словно щупальца из-под половиц. Он вскрикнул и отпрянул к двери.
– Отпусти! – закричал он, не зная, кричит ли он Глафире, духам или самому зелью. – Что ты мне дала?!
Глафира захихикала, ее тень на стене извивалась в такт пению духов.
– Видз! (Знание!) – просипела она. – Ты хотел знать сьылöм (веру)? Вот она! В земле! В камнях! В нашем страхе! Чувствуешь? Чумья близко… она чует тебя… Ой, больно будет! БОЛЬНО!
Последнее слово она выкрикнула пронзительно, и в этот момент напев под полом достиг кульминации. Голоса слились в один мощный, скорбный рев, от которого задрожали стены избы. Одна из кукол – глиняная, с острыми камешками-глазами – сорвалась с балки и разбилась у ног Алексея с сухим треском. В тот же миг вибрация прекратилась. Гул стих. Голоса оборвались, оставив после себя гнетущую, звенящую тишину. Даже огонек в печке погас, окутав избу в полумрак.
Алексей стоял, прислонившись к двери, дрожа всем телом. Холодные щупальца исчезли, но ощущение ледяного ожога на лодыжках осталось. Во рту стоял мерзкий привкус зелья и страха. Он видел перед собой только белеющие в полутьме зубы Глафиры в ее жуткой улыбке и разбитую куклу у своих ног. Ее каменные глазки смотрели на него с пола.
– Теперь… знаешь? – прошептала Глафира, и в ее голосе не было уже безумия. Была древняя, страшная усталость. – Онысь говорили с тобой. Запомни. Они не забудут.
Алексей не помнил, как вырвался из избы. Он бежал по грязи, спотыкаясь, задыхаясь, не разбирая дороги. За спиной ему чудился хохот Глафиры и шелест тысяч кукольных глаз, следящих за ним из темных окон. Но громче всего в ушах еще стоял тот скорбный рев из-под земли. Голос духов. Голос земли. Голос Ыджыд-Войвыра. И он понял одну страшную вещь.
Степан Пыстин не врал. Анфиса не преувеличивала. Глафира не сумасшедшая.
Здесь, в этой проклятой деревне, мифы были вовсе не мифами. Они были дыханием, плотью и костью этого места. И он, Алексей Гордеев, аспирант-этнограф, стал частью этого живого, дышащего ужаса.
Он добежал до своей избы и, ввалившись внутрь, запер дверь на щеколду, хотя прекрасно понимал – от того, что пришло с ним в эту деревню и что разбудил он сам, запор не спасет. Он стоял посреди своей временной конуры, слушая усилившийся, торжествующий шепот в стенах. Теперь он различал слова. Те же слова, что пели Онысь.
"…чужак… пельöс… кутчысьны…"
Чужак. Часть. Платить.
Глава пятая
Адреналин от встречи с Глафирой и голосами из-под пола выветрился, оставив после себя липкий, изматывающий страх и жуткое послевкусие зелья – горькую полынную горечь на языке и металлический привкус страха в горле. Алексей сидел на скрипучей кровати в своей избе, кулаки сжаты до побеления костяшек. Шепот в стенах не стихал. Он больше не был абстрактным шорохом. Теперь это был навязчивый, многоголосый лепет, в котором явственно проступали знакомые слова: "чужак… пельöс… кутчысьны… чом…" (чужак… часть… платить… тьма…). Рационализация была мертва, растоптана Степаном, отравлена Глафирой, подтверждена этим проклятым шепотом. Здесь творилось что-то за гранью понимания, и он, Алексей Гордеев, был в центре этого кошмара.