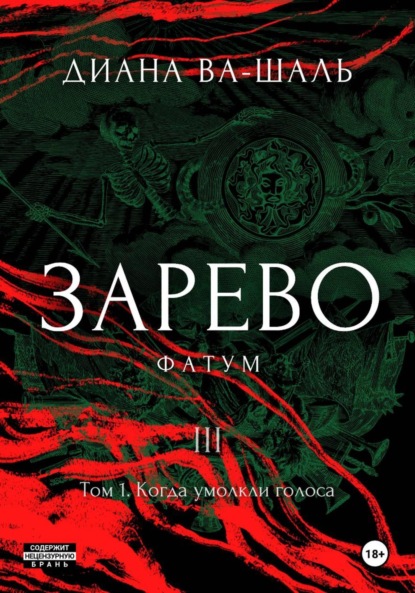Полная версия
Славный судный день
Задумываюсь.
Иногда мне кажется, что было бы проще вообще никогда не появляться на этот свет. Жизнь испытывает, играет – ни то волей создателей свыше, ни то причудами окружения. И ты всегда оказываешься в стороне меж разыгрывающими драмы и комедии. Эти актеры, вместо того, чтобы обсудить сценарий друг с другом, выплескивают на тебя эмоции своих ролей, и раз за разом бросают тебя в противовес своим противоборствующим сторонам, как бы ни старался лавировать, балансировать. Как бы ни пытался удерживать распутывающиеся нити стабильности и гармонии – они рвутся из рук, режут ладони, сдирают кожу.
Что я чувствую? Не знаю. Уже не знаю. Кажется, что вновь и вновь ошибаюсь. Делаю все не так. Выбираю худший вариант из возможных. Бессмысленно трачу себя. От этих мыслей тошно и кружится голова; и потолок начинает вертеться, когда упираешься в него взглядом. Я настолько чужой для самого себя, что не удивительно, насколько самоощущения странника обостряется среди людей.
Я не в порядке. И дурные сны, фрагментарная амнезия, голоса и тени, являющиеся в кошмарах – меньшая из проблем.
Меня не пугает кромешная тьма. Не пугают монстры, желающие сожрать мое сердце. Не пугает кара богов, о которой проповедовал дед. Это все – избавление. Это все – исцеление. Я бы и сам поднес плотоядной твари свое сердце на золотом блюде… Но твари уже являлись в мой дом. Их не остановили бы ни молитвы деда, ни обереги. Они постучали в двери костяшками, скрытыми под кожаными перчатками. Вошли без препятствий – и на их поясах поблескивали серповидные ножи, напоминающие клыки самых жутких монстров из древних сказаний, – улыбались приторно, зная наперед финал.
Нора хочет избавить меня от чужих голосов, но мне это не нужно. Чужие голоса в моей голове – отличное средство не слышать собственного.
– Саймон, – мягко окликает Нора, – я не смогу тебе помочь, если ты будешь молчать. Не в моих силах читать мысли, а ты ничего не говоришь. Мне важно понимать, о чем ты думаешь, что ты чувствуешь.
– Я понимаю. Просто мыслей слишком много, чтобы пытаться их озвучить. Стараюсь вычленить основное.
А в действительности – не хочу делиться некоторыми из них. Подбирать слова и думать прежде, чем говоришь – одно из основных правил, которые я вынес после того, как дед, а вместе с ним и вся наша семья попала под опалу политического сыска.
– Хорошо, я понимаю, как тебе тяжело. Давай попробуем поговорить о чем-то более приятном? Как у тебя дела на работе? – видя, как искривилось мое лицо, Нора вздыхает и деликатно меняет тему. – А переезд в новую квартиру? На прошлой сессии ты упоминал, что получил по программе "Светлый дом" жилье в новостройке.
– Правительство Трех заботится о своих верноподданных, – но едкая усмешка в голосе пугает меня самого. Чувствую, как кровь отливает от лица, оборачиваюсь в испуге на Корпело, которая делает вид, что ничего не услышала. – Да, я… Получил ключи… Переехал со съемной. Быстро. Вещей у меня немного, так что обустраиваюсь практически с нуля.
– Это к лучшему. Начинать новую историю следует с чистого листа.
Хмыкаю. Не то чтобы я когда-то горел желанием начинать с чистого листа. Мне нравился наш дом в родном городе. Нравилось жить большой дружной семьей. Нравилось посещать лекции деда в университете и ходить вместе с ним в библиотеки. Удивительно, что память стерла близких – я даже не могу вспомнить цвета глаз матери, звучание смеха отца, длины волос сестер, да даже мимики деда. Я забыл их, но храню в памяти свои эмоции рядом с ними. Я забыл конкретные эпизоды, но из отдельных изображений стараюсь выстроить целостную картинку.
Воспоминания обволакивает дымкой. Они сумбурные и нечеткие. Образ деда возникает вместе с запахом старой бумаги, шелестом книжных страниц, которые наполнены диковинными узорами. Я не помню, но знаю, что голос деда становился мягче, когда он обращался к древним – Ушедшим, – богам; к тем, чьи имена, по его словам, не стоило произносить вслух. Нет, было можно вспоминать их как сказки, как занимательные и страшные истории, как персонажей – но верить в них и взывать к ним воспрещалось.
Иногда мне кажется, что память просто стерла родных, но оставила пробелы для чего-то чужого. И в эти пустоты лезут тени и шепоты, похожие на шелест ветра в тростнике, и говорят они на языке, которого не понимаю – но звучит он слишком уверенно и просит чрезмерно многого.
Не знаю, когда дед уверовал в Ушедших. Может, к старости лет ему стало проще воспринимать действительность, как воздаяние и кару за грехи прошлых поколений. Он был слишком умен, чтобы начать всерьез воспринимать сказки… Но он ведь начал. И, хуже того, стал это транслировать – и на лекциях в университете тоже. Итог был ясен сразу. Ни отец, ни мать не смогли помешать – и в итоге за помешательство деда расплатилась вся семья Арола.
И, пожалуй, нам даже была оказана определенная милость.
– Ты вновь молчишь. Это становится заметнее. И всё чаще, – недолгая пауза. – Скажи, Саймон, я правильно понимаю: чем больше фрагментов возвращается, тем сильнее ты стремишься отгородиться? Чем больше ты вспоминаешь, тем сильнее от меня закрываешься?
– Не думаю, Нора. Если быть откровенным… Чем дальше, тем больше всё путается. Всплывают чувства, состояния – иногда очень ярко. Но сами события, детали… Затираются. Как будто на место памяти приходят сны. Словно меняю фотографии на недолгие мороки.
– Хм… – женщина кивает, а затем быстро пишет на отрывном листе. – Это может быть реакцией на терапию или на фармакологию. Давай попробуем заменить один из твоих препаратов, ладно? Я назначу аналог, который, будет работать мягче. Мы адаптируем схему, чтобы ты постепенно начал чувствовать почву под ногами. Главное – не пытайся форсировать воспоминания. То, что ускользает, может быть не случайным. Иногда психика стирает то, что ещё рано вспоминать. Договорились?
***
Небо покрывалось алыми облаками. Горело к вечеру, пожирая серость цветом и отражаясь в многоликих бесконечных окнах однотипной застройки. Не дома. Металлические киты. Не "города в городе". Лабиринты, из которых невозможно выбраться. Раскинувшийся город серый, пасмурный, негостеприимный. Густеющий туман даже преображал его в лучшую сторону… Наверное. Потому что при большом желании можно было представить в этих силуэтах кладбище руинизированной идеи идеального мегаполиса.
Добраться до своего жилкомплекса – это лишь четверть испытаний. Остальная часть пути до квартиры превращалась в настоящий квест. Перед входом в подъезд – массивная дверь. Электронный замок мигнул, подтверждая доступ, и та отворилась с натужным скрипом. Маленький холл выглядел опрятно, но холодно. Чистота здесь была почти стерильной, но лишённой жизни. Отголоски медицинского центра, расположенного на первом этаже, наполняли пространство запахом антисептика. Окна отсутствовали. Холодный белый свет люминесцентных ламп усиливал ощущение, что ты находишься в операционной.
Моя квартира – на тринадцатом этаже. Скрежет тросов сопровождал движение лифта, и я смотрел на тусклый экран, где цифры этажей сменяли друг друга с раздражающей медлительностью. Когда наконец двери открылись, я шагнул в коридор. Он длился практически бесконечно. Линия потолочных ламп тянулась вдаль, свет мигающих лампочек становился всё более неровным. Казалось, что стены давили, сужаясь по мере продвижения, и что-то в этом удушливом пространстве шептало о том, что конца не будет.
За каждой дверью скрывались чужие жизни. Стоны, раздающиеся за одной, детский плач – за другой. Музыка с глухим басом доносилась откуда-то из глубины, перебиваемая звуками спора. Я шел не останавливаясь. Единственный ориентир – номер моей квартиры.
Вставил ключ-карту в замок. Он запищал, мигнул зелёным светом. Дверь поддалась. Прежде, чем войти в квартиру, обернулся. В этот момент, на другом конце коридора, где виднелся тусклый свет из выхода на балконные площадки, мне показалось, будто мелькнул силуэт в полосе света. "Тебе кажется. Это просто усталость", – повторил себе и скрылся в квартире.
Квартира – почти убогая, но в этом убожестве таилась утешительная предсказуемость. Я знал каждый угол, каждую трещину на потолке, каждый скрип досок под ногами. Маленькое убежище в сумасшедшем мире. Я создавал его под себя.
Скинул куртку. Прошел на кухню. Достал из шкафа банку растворимого кофе, и включил старый электрочайник. Его жужжание нарушило тишину, которую сначала даже не заметил, когда вошел. В мелких недочетах квартиры – своя идиллия; и тишина здесь, дома – уютная и приятная.
Я ненавидел °9-1-12-1-20. Но единственное место, которое в нем любил – собственная квартира.
Наверное, свой отчий дом я любил сильно больше; но, по правде, помнил я его уже слишком смутно. Как и эмоции, там испытывающие, подзабыл. Один из неочевидных плюсов проблем с памятью, напоминающий, что зачастую восприятие всякого дерьма, которое нам подкидывает Провидение, зависит лишь от нашего к нему отношения. Ракурсы, стороны, полутона – все дела.
Пока чайник закипал, убрал религиозную литературу и толстую книгу сказаний и легенд – подарок одной знакомой, – в тайник под кроватью. Марика и Лоренц, конечно, никому не рассказали бы, но не на шутку бы забеспокоились. Они и так настороженно относились к моему увлечению фольклором и частенько намекали, что это плохо на меня влияет. Так что незнание сделает спокойнее и им, и мне.
Налил крепкий быстрорастворимый кофе. Пах он сухой травой, дегтем и пылью, но до чего нравился мне его терпкий горький вкус! Вышел с чашкой к балкону, выглянул в окно.
Вернулся мыслями к Ларри и Маре. Я ненавидел °9-1-12-1-20, но для меня город явно делала лучше эта парочка, ставшая мне верными друзьями и заменившая семью. Мы познакомились спустя месяц после моего переезда. Стояла поздняя ночь. Я вновь страдал от бессонницы. Вернее, был разбужен около полуночи страшным кошмаром и не смог больше задремать; пошел бродить по городу, нашел какой-то круглосуточный спортивный бар, где крутили никому не интересные соревнования по стрельбе из лука – людей раз-два и обчелся; будний день, – никому, кроме одного парня, с жаром следящего за трансляцией. Его спутница, эффектная девушка с серыми глазами и темными волосами, наблюдала за ним, как за умалишенным, искренне недоумевая, откуда тот берет такой дикий азарт. Мне было интересно на них поглядывать. Комично они ругались и возмущались. Мою персону парочка заметила, только когда бармен слезно попросил нас покинуть заведение – "Мы до последнего клиента, ребят; смена семнадцать часов… Давайте вы потом придете посмотреть, а?" – и уже на улице решила со мной познакомиться. Спать никому не хотелось, и мы гуляли по городу до рассвета. Я стал невольным судьей тех ночных споров Лоренца и Марики; вернее, роль судьи мне была предоставлена, но слова я все равно не смог ввернуть в поток их дискуссии. Домой вернулся со спокойным сердцем, хотя и думал, что случайные собеседники просто станут новым воспоминанием. Но нет. Общение завязалось. Как-то само собой. Легко и непринужденно, словно встретил старых товарищей.
Ларри и Мара в то время являлись "друзьями с привилегиями", хотя, убежден, что она уже тогда была серьезно влюблена, просто сама себе этого не признавала. Почему? Ну, с одной стороны, думаю, ей не очень хотелось "обременять себя" отношениями. С другой – Марика Ранта, гордая девушка, никогда бы не простила, если бы Лоренц, сильно не обделенный вниманием прекрасных дам, выбрал бы не её. К тому же, делать первые шаги и признаваться в чувствах абсолютно не входило в привычные для нее рамки – она и сама купалась во внимании противоположного пола. Поэтому формат их отношений поменялся только тогда, когда очевидные вещи дошли до Ларри, и он сам сделал первый шаг.
Самое ироничное, что мне каждый раз удавалось уловить их чувства раньше них самих. Когда в один прекрасный день Лоренц вдруг осознал, что мечтает уехать в теплый климат, жить в окружении зелени на берегу океана, я понял: он полюбил Марику. Потому что мечты Ларри были вызваны вовсе не внезапным зовом Западных земель, а тем, что Мара до безумия хотела путешествовать по их красотам и посетить Теневые берега – острова, лежащие рядом с теми территориями. Она увидела фотографии и буквально заболела пейзажами необузданной дикой природы. Желания Лоренца не рождались открытиями Марики. Желания Лоренца рождались необходимостью следовать за ней.
Для меня Диллон был настоящей опорой, старшим братом – он всячески старался поддерживать в трудные времена, сопереживал эмоциональным волнениям, хотя не всегда понимал их глубину. Ларри (да и Мара) догадался о проблемах моей семьи с политической полицией, но никогда напрямую не спрашивал. Не думаю, что он стремился обезопасить себя – Лоренц Диллон безрассудный смельчак, – но точно не хотел ставить меня в затруднительное положение болезненным воспоминанием, страхом вновь оказаться на грани или попросту ненужными объяснениями.
Марика вдохновляла. Сама идейная, она заряжала и других энергией и желанием что-то делать. Благодаря ей, в общем-то, я начал выползать из состояния овоща и пытаться вновь влиться в привычную жизнь. Сеансы Норы были для меня важны, но именно Мара стала светочем. Корпело пыталась помочь мне "лечением", но Ранта не делала из меня больного.
Перевел взгляд на соседний дом – такая же многоквартирная клетка, человейник чуть пониже нашего через двор-колодец, – где мог различить за полупрозрачными шторами жизнь других людей. Но в том окне, в котором хотел увидеть движение – пусто и темно. Прямо напротив моего. Разводы на стеклах напоминали о рисунке, что еще неделю назад горел ярким красным цветом.
Тяжело вздохнул, уходя вглубь квартиры. Глянул украдкой на часы – до прихода Марики и Лоренца оставалось часа четыре-пять, и, по большому счету, я мог прямо сейчас начать просматривать вакансии… Прикрыл глаза буквально на мгновение, прогоняя перед ними мой уход из Альянса, багряной лицо Мартинса; то, как уже четырнадцатый день не отвечаю на звонки и сообщения от Норы…Думал, и думал, и думал. Пытался копаться в памяти, вспомнить дом, лица родных, улицы города, где родился; вспомнить хотя бы те часы, которые провел в камере дознавателя. О чем мы говорили. Что со мной делали. Но в голове – черная-черная пустота вместо событий и людей. Словно эпизоды стирали ластиком или осветляли клячкой до небрежных набросков. Зато помнил лекции деда, запах книг и деревья на тропинке в лесу, который рос за нашим домом; помнил прохладу воды в колодце и пение птиц летними ночами, когда я спал на чердаке и смотрел через круглое окно на небо. И скитаясь по обрывкам жизни сам не заметил, как провалился в сон.
Или вынырнул в нем? Сознание бросило меня в кипящее внепространственное нечто. Алое. Горящее. Тлетворное. Воздух там наполняли шипящие шепоты – бесперебойное многоголосие, жуткое и сильное. Они преследовали. Дышали в затылок. Но стоило обернуться, как меняли свое местоположение. То ли сетка вен, то ли наросты, в следующий миг трансформирующиеся в черные ветви сгоревшего леса, следом – в мрачных воронов, а затем – в колючую проволоку и кованые заборы. Мир вокруг клубился, менялся, переходил из одной формы в другую – то плавно, то скачками. Но неизменно оставался красно-черным. Красные небеса. Красная топь под ногами. Я пытался идти, но ноги утопали в трясине, и с каждым шагом я оказывался глубже. Дышать становилось невыносимо, словно и воздуха становилось меньше. От рези в легких темнело в глазах, а мое страдание, кажется, лишь сильнее разжигало горнило. "И явится Сумрачная, и дыхание ее повергнет мир в холод. И придет Аштес, и заставит пить кровь горячую. И запылают костры воздаяния, и вспыхнут на них отступники". Я пытался идти и говорил беспорядочно, силясь заглушить гремящий в ушах голос. Голос деда, решившего вместо профессора стать для студентов проповедником. Что с ним случилось? Почему он вдруг уверовал? Почему уверовал не в то? Ведь всех нас должна защитить Богиня Матерь – так говорил один из венценосных монархов, так говорил Посол Небесный. Но слова становились громче и громче, настолько оглушающими, что болело в ушах. А затем я почувствовал, как на шее стало горячо. Поднял руки, коснулся ушей. Посмотрел на свои пальцы. Кровь. У меня из ушей лилась кровь. И мир вдруг стал тихим. Всего на мгновение. Потому что потом в глубине моей головы затараторили шепоты, которые прорвались через слух сразу в мою черепную коробку.
"Саймон. Саймон. Саймон. Боги голодны. Боги требуют веры. Боги требуют преданности. Иначе боги будут требовать возмездия. Карма накажет их предателей. Карма накажет их обманщиков. Всех на костер тщеславия! Саймон! Саймон! Саймон!"
И хор голосов слился, произнося бесперебойно мое имя.
Саймон. Саймон. Саймон. Саймон. Саймон. Саймон. Саймон. Саймон. Саймон. Саймон. Саймон. Саймон.
Звук становился громче, звонче, выше… И я распахнул глаза, понимая, что трезвонит видеомонитор домофона. За окном стемнело, чумная голова гудела, и титанических сил стоило подняться.
Пришли Марика с Лоренцом.
***
Если бы когда-нибудь реальность позволила бы мне вспомнить тот вечер, я бы охарактеризовал его одним только словом: счастье. Хотя за ним и скрывалась странная, горьковато-сладкая тень, которую я никак не мог разглядеть до конца.
Мара и Ларри утянули меня из сумбурного ощущения тревожности и неясных жутких снов, вырвали из лап сомнений. Их смех, их лёгкие, порой почти бессмысленные разговоры окружали меня, как кокон, где не было места страхам и ночным кошмарам. Ребята просто были рядом со мной. Сильные, смешные, намеренно выводящие друг друга из себя, но неразрывно близкие, неотделимые, связанные. Как ветра и Чеботарский залив.
Я не стал им говорить об уходе из "Альянса" – знал, конечно, что Ларри сразу бы начал мозговой штурм и стал предлагать варианты, мол, "на худой конец всегда устрою тебя администратором в наш спортзал". Мара для приличия поворчала бы – но без зла и скорее мотивирующе. Я знал, что они бы поддержали мой выбор, ядовито обсудили бы Мартинса, но… Я не стал говорить. Не стал портить им вечер. Не стал их беспокоить очередным волнением, меня касающимся – они и без того долгое время были моим эмоциональным щитом. Поэтому в тот вечер мы шутили. Поедали попкорн и вредные снэки в ужасных количествах. Смотрели глупые боевики, переполненные клишированными героями и нелепыми взрывами. Марика и Лоренц комментировали каждую сцену, едва сдерживая (а порой и не сдерживая вовсе) ехидные смешки. Я замечал в их взглядах что-то, чего мне не хватало: лёгкость, беззаботность… Смелость. Та самая ребяческая смелость и вера в перемены, которые отняла у меня сырая камера и холодная сталь серповидного ножа у горла.
Когда сюжет фильма окончательно превращался в бессмысленное месиво, переключались на паршивую погоду и пейзаж за окном. Вечная тема для разговора, незыблемая.
Киношный герой картинно объяснялся в любви, и Марика рассмеялась, подцепляя лапшу на вилку. В этот момент что-то ударилось о потолок. Глухо. Тяжело. Мы втроем подняли синхронно головы, и я про себя тихо выругался "Да твою мать…". С другой стороны, оно и хорошо, что все втроем услышали – потому что я несколько дней думал, что словил шизу с этими странными звуками сверху; соседка не появлялась уже дней пять-шесть, и поговаривали, что она съехала, не попрощавшись.
– Это что там? – Лоренц нахмурился.
Тишина. Только продолжавший свою слезливую серенаду герой-любовник и скрип стула, на котором ёрзала Марика.
– Наверное, уронили что-то, – пожала плечами она.
Но у меня почему-то кольнуло внутри. Ведь там никто не живет, верно? Ведь никто не заезжал больше…
Вновь сосредоточиться на фильме оказалось непросто. А потом мы с Марикой вышли покурить на балкон. Город кутался в туман, и воздух в ту ночь был холодным, острым даже. Запах мокрого бетона и жженого табака бил в нос. Ларри гундел на нас из комнаты, как старая бабка. Мара закатила глаза и протянула мне зажигалку. Металлическую, тяжелую. Мы перевели взгляд на разноцветные огоньки в тумане, и я чувствовал, как спокойствие заполняло каждую клетку тела. Ворчание Лоренца удивительно умиротворяло, наверное потому что ассоциировалось с его странной дотошной заботой. Я отвлекся от дурных мыслей, забылся.
– Знаешь, – наконец сказала Марика, стряхивая пепел с сигареты. Ее выразительные серые глаза, густо накрашенные тушью и темным карандашом, словно светились изнутри, – иногда Ларри так выводит меня из себя, что хочется всерьёз его придушить. Без шуток. Прямо вот взять и… – она сделала лёгкий жест пальцами. – А потом смотрю, как он носится, суетится, и вдруг становится ясно – без этого идиота я просто рассыплюсь. Парадокс, да?
В её голосе звучала усталость, но усталость приятная.
– Ага, очень забавно, – усмехнулся я, глядя на дымящуюся сигарету между моих пальцев. – Иронично даже. По сути вы просто идеально друг друга бесите.
– Мы много чего делаем идеально, – хохотнула девушка, и в глазах ее плясали чертята. – Даже когда ссоримся, это почти искусство. А уж когда миримся… – она наклонилась ближе, выдыхая дым. – Иногда стоит поссориться просто ради этого.
Я не сдержал глубокого грудного смеха.
Да, Марика и Лоренц были безупречной парой. И я искренне радовался, что они наконец-то вместе. Закончился тупеж Ларри. Перестала играть в горделивое безразличие Мара. Оба упрямые нашли друг в друге смирение. Их родные даже отшучивались, что, став парой, Марика и Лоренц свой пылкий нрав поумерили. Вранье, конечно, такие горячие сердца не потушить. Тем более, когда огонь поддерживается с двух сторон.
– Ты так и не помирился с Лаурой, да? – осторожно спросила Ранта спустя время. – Не смогли найти общий язык?
– Всё это стало слишком сложно, – отозвался так же опасливо. Мне не хотелось лишних вопросов. Потом что они заставили бы заглянуть в себя и понять, что там пусто.
Нет реакций, нет чувств, нет ответов.
Какой-то замкнутый круг получался, и я уже и сам не знал, кто меня туда загнал. Я, мои сны, провалы в памяти или расплывающиеся и изменяющиеся воспоминания. Уже и сам начинал путаться, где я настоящий, а где – созданный напоказ образ.
– Эй, ты чего? – Мара, заметив моё замешательство, коснулась моего плеча.
Махнул головой, переводя взгляд вниз, на темный квадратный дворик домов-клеток. Там, в тумане, что-то мелькнуло. Сначала я решил, что это кошка. Но оно двигалось как-то иначе. Слишком быстро. Слишком странно. Тень угловато скользнула по лестницам между этажами дома напротив.
В сердце неприятно кольнуло. Словно разум знал, что это, но ещё не мог понять до конца.
– Саймон? – настороженный голос Марики.
– В порядке, – поспешно произнес, отводя взгляд. – Просто показалось что-то, – девушка внимательно смотрела на меня. Но ничего не сказала. – Да брось… Пошли, Ларри ждет нас с новой порцией желчных комментариев об отвратной игре актеров и каким-то очередным дурацким фильмом.
– Мы сами попросили найти его самый кошмарный.
– Да, и я очень надеюсь, что ему удалось отыскать вишенку на торте.
Мы вернулись в комнату, где Лоренц уже разрезал пиццу. Закрыли дверь на балкон, задернули шторы, словно закрываясь от этого негостеприимного холодного мира в теплом коконе…
Но что-то внутри меня уже не давало покоя. Вечер продолжался, смех всё ещё звучал, но в сознании крепчала тревога.
Маленькая трещина в идеальном зеркале счастья.
ОНА
Мой очаровательный Саймон, мой солнечный мальчик с золотыми волосами и ясными голубыми глазами. Я помню, как ты появился. Испуганный, замкнутый; и наш город лишь множил твои тревоги и загонял мечущуюся душу в новые клетки. Я помню, как увидела тебя впервые. Ты пытался разобраться со связкой ключей и не потерять наушники, еще путаясь в лабиринте подъездов и дворов-колодцев. Ты и не заметил меня. А я сидела под каштаном, собирая темные холодные бусины в браслет. Стоял пасмурный день. Солнце еле пробивалось из-за облаков. В городе пахло сыростью и страхами – не смейся, у страхов тоже есть запах, разве ты не знал? Может, ты пока просто не научился его различать? Хотя, наверное, это не то, о чем следует говорить при знакомстве.
Но что мне рассказать тебе? Как я подсматривала за твоей жизнью? Как представляла тебя, оставаясь наедине с собой? Нет, это слишком пошло и грубо, дешево, а ты не в меру напряжен и мнителен, чтобы трактовать мои действия правильно. Однажды твои глаза откроются, и ты все поймешь.
А пока я готова слушать и подыгрывать, что наша встреча в тихой кофейне на окраине аллеи старого парка случайна. Ты расстроен. Тебе нужен слушатель. Ты не готов говорить открыто и пытаешься иносказательно препарировать чувства – но не думаю, что сам понимаешь причину паники и желания кричать. Но наши крики, Саймон, ударятся о баррикады, задохнутся в толще воды. Им никогда не вырваться звуком, пока есть те, кто пожирает голоса.