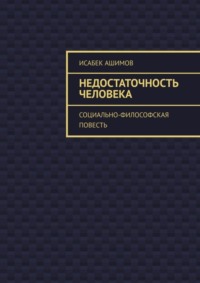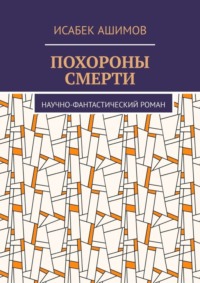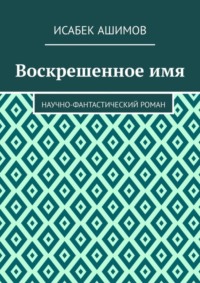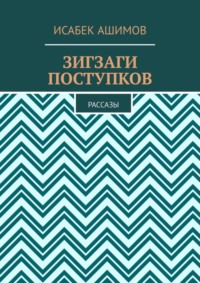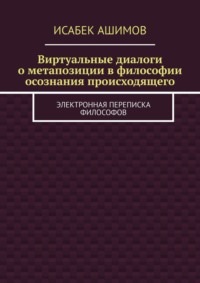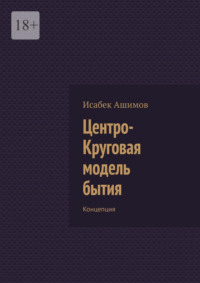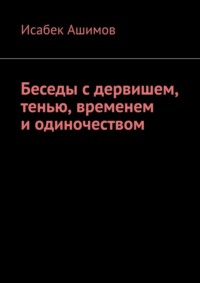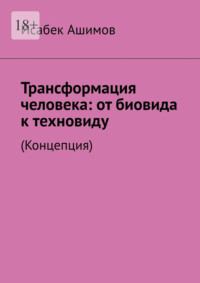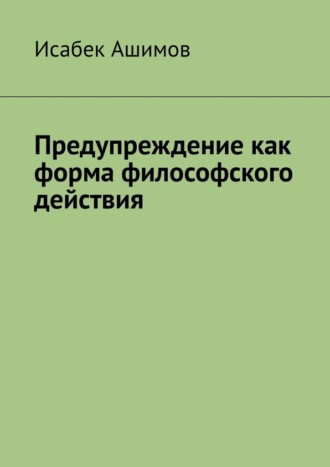
Полная версия
Предупреждение как форма философского действия
Безусловно, в ситуации Апокалипсиса у случайно выживших людей будет превалировать ощущение опустошения и непонимания происходящего – ни идея ненависти к человечеству, ни идея человеколюбия. Даже представить себе картину того самого тотального ядерного угара Земли никто не желает, не говоря о том, что кто-либо будет пытаться чего-то понять, осознать ситуацию, выстроить философию выживания. Люди сломлены, их жизнь уже не имеет смысла, человек оказался на изнанке мира. После ядерного Армагеддона уже никто не осмелится даже мечтать о том, что мир возродится, что человек останется человеком и для которого все еще будет иметь смысл надеяться на продолжение жизни, любить и заботиться о семье, верить в Бога, страдать о потерянной цивилизации. Но сломленный человек будет ли действовать как прежде, таскать на себе всё и вся, как паровозы, пока не умрет или же окончательно поняв всю космическую безысходность человечества, абсурдность его существования, как тупиковой ветви эволюции, перестанет действовать. Между тем, бесцельность само по себе бессмысленна.
Как известно, А. Камю описал идею абсурдности жизни на примере древнегреческого мифа о Сизифе. После смерти, оказавшись в подземном мире Сизиф просит богов на время вернуть его на земную поверхность, дабы завершить свои дела. Однако, оказавшись на поверхности, вновь увидев и почувствовав благодатное Солнце он уже не захотел вернутся в тьму подземного мира. Боги прокляли его за неповиновение: отныне и навечно выкатывать на вершину горы огромную камень. Сизиф был вынужден снова и снова приниматься за свою работу. Во время очередного возвращения к скатившемуся камню к Сизифу возвращались не только смутные воспоминания о времени, когда боги еще не наказали его таким вечным трудом, но и смутные догадки о бессмысленности своего труда и существования вообще.
С дилеммой Сизифа сталкивается каждый человек. Он считает, что его жизнь и работа имеет смысл. Однако, он не понимает, что жизнь и работа имеет смысл, если достижение цели невозможно или если человек еще не достиг результатов. В этом и состоит абсурдность ситуации: взгляд изнутри говорит, что наша жизнь полна значений и смысла, тогда как с точки зрения вечности, наоборот, что наша жизнь вообще не имеет смысла. Если Сизиф возвращается за своим камнем сам, то мы перекладываем такую ношу на плечи наших потомков. Какой же выход из такого тупика? «Забвение. Удерживать себя от самоубийства – величайший героизм», – говорит А. Камю. В чем логика действий Сизифа? Он, вполне осознавая тщетность своих действий, находит свой смысл в презрении к своему отчаянию, к проклятью богов, к жалости всех остальных, сохраняя свое человеческое достоинство, свою человеческую цельность. Вышеуказанные мысли наталкивают на размышление о месте человека в этом мире, об его ответственности и космическом предназначении человека, но и, разумеется, об ужасе ситуации с ядерной проблемой – «лучше все усилия потратить на недопустимость ядерного апокалипсиса, чем на выживание в постапоклипсисткой эпохе. Возможно, ситуация гуманистичности лишь позволяет ударить больнее по психике людей, чтобы попытаться разбудить в них успокоенное сознание и очерствевшее сердце.
Итак, можно говорить о том, что в литературе, искусстве сложились стандартные взгляды на мрачное будущее пост Апокалипсиса? В науке точно сложилось, в научных и философских подтекстах размышления о жизни и смерти в ядерном угаре более правдоподобны, чем в литературе и искусстве, тем более, более четко изложены суждения о том, что привело ко всему этому и как этого можно было избежать. В отличие от науки, в литературе, искусстве картина ядерного Апокалипсиса в основном приведены завуалированные символизмы и очевидные аллюзии, но вместо с тем, в отличие от науки в них больше говорит о человеке, о моральном выборе, об ошибках совершенных в прошлом и о том, что рано или поздно за них придется расплачиваться, даже если цивилизация уже рухнула в бездну. В этом случае, наука говорит о том, что в пост Апокалипсисе мира на самом деле больше не будет и нечего строить надежду и веру в будущее, что надежда и вера всегда врут. Именно ученые возмущаются тем, что «человек всю жизнь врет, но перед смертью говорит правду!». Неужели, чтобы человек все осознал и понял нужно заглянуть в глаза смерти, ощутит ее привкус, привкус грязи радиации?
Как известно, наука, литература, искусство, культура обладают своими, особыми приемами, способными заставить людей не только осмыслить и понять суть происходящее, но и напугать, вздрогнуть, ужаснутся людям, что их ждет в конце. Именно на таком уровне эмоции нужно передать людям не только атмосферу Апокалипсиса, но и атмосферу полнейшего омертвения людской души, разума, уверенности в себе и роде человеческом. Всё обволакивает коконом отчаяния, бременем злости на самого себя и человечество в целом просто за то, что мы способны допустить подобное. От увиденного, услышанного, понятого человек должен прийти в ужас, забиться в истерике, орать, кричать, топать нагой, биться в конвульсиях от осознания полной безнадежности. И смотришь он вдруг прозреет, осмыслит происходящее и поймет, что он сам и все человечество стоит у пропасти в небытие.
Понятно, что у ученых особая миссия. В отличие от других людей, у которых философская тема ядерного Апокалипсиса растворена в безысходности, бессмысленности, не оставляющие места мечтам о выживании и лучшей доле человечества в далеком будущем, у ученых, которые в полной мере осознают свою вину, что не смогли сберечь мир от тотального разрушения в результате применения научных достижений, способны разработать теории и знания, которые должны подсказать человечеству иной путь развития, если, конечно же выживут в «ядерной зиме». Прежний мир перестал существовать, так почему не построить новый? В кругу обреченных все смотрят друг на друга пустыми глазами, но только не ученые, которые могут вырастит новую жизнь. Именно они со своим беспокойным рассудком просто не смиряться с ролью жертвы обстоятельств, а найдут ответы на вопросы, сложат цели и задачи, попытаются решить их.
Что важнее для сохранения человечества в эпоху ядерной гонки и опасности ядерного Армагеддона – однополярный или многополярный мир? Вопрос не праздный. Одни говорят и действуют с позиции построения на Земле однополярного мира, другие, наоборот, многополярного мира. Сама логика существования человеческой цивилизации как элемента Вселенной подсказывает перспективность построения именно однополярного мира с единой ответственностью за судьбу человеческой цивилизации как уникума Вселенной. Ведь пока великие державы и их правители видят потенциальную или реальную угрозу друг в друге, риск глобальной катастрофы будет существовать всегда. Причем, не имеет значения уровень оснащенности стран арсеналами ядерного оружия, пресловутыми «ядерными щитами». Между тем, общемировая коммуникация вокруг идеи однополярного мира, «нового мирового порядка», «единого мирового правительства» еще далека от реализации. Должны пройти сотни лет, чтобы понять, осознать, осмыслить эти идеи. Однако, само по себе создание такого однополярного мира чревата немалыми проблемами, каждый из которых может привести к локальным и общепланетарным войнам. Тот же «порочный круг».
Прежде всего, критическую ядерную ситуацию, то есть абсолютную и непоправимую ядерную катастрофу осознают сами военные и не может быть, чтобы у них не возникала мысль лучше уже сейчас пустить себе пулю в лоб, иначе говоря, нажать на красную кнопку «Пуск», пока тебе не разорвет пуля, граната, снаряд, пущенные противником. Ведь, если у человека нет надежды, он уже мертвец. В этом аспекте, звучит совершенно ужасным глубоко эгоистичная мысль некоторых правителей ядерных держав типа «Если в мире не будет моя страна, зачем мне такой мир». Такая мысль напоминает символ эгоизма личности «После меня, хоть Потоп». Другая сторона такой проблемы заключается в том, что геополитики, во-первых, лучше других понимают неизбежность погибели человечества, более осведомлены о том, что оно обречено из-за неспособности государств спастись самостоятельно, своими силами, а, во-вторых, научное знание и успехи технического прогресса загонят человечество в могилу, не говоря уже о том, что человечество так никогда и не выберется с планеты Земля и погибнет вместе с ней навсегда, растворившись в космической пыли Вселенной.
Кто знает? Возможно такое суждение типа «Живи сегодняшним днем – завтра может и не состоится!», «Бери из жизни все – живем один раз!», «Мир обречен – разделяй и властвуй!» не эгоизм вовсе, а отчаяния и страдания, помогающие нам более полнее почувствовать красоту самой жизни. Кто знает? Возможно, определенность, скоротечность человеческой цивилизации позволяет нам осознать и понять то, чего мы не понимаем в ежедневной суете. Кто знает? Возможно, с осознанием человека или общества своей ограниченности во времени только и дает возможность понять и осознать самих себя. Ясно одно, человечество погрязло в своих проблемах и на этом фоне, очевидно то, что пытается лишь отодвинут на долгий ящик проблема своего выживания. А между тем, с каждым часом становится понятным то, что гуманистический пафос, видимо, не остановит человечество от третьей мировой войны, которая, с большой долей вероятности, и будет последней.
Интересно рассмотреть проблему ядерной безопасности с позиции психологии людей. Прежде всего интерес представляет профессиональные особенности психологии «ястребов» современной войны. Хотя существуют немало гражданских людей, поэтизирующие войны. Ясно одно, государство, находящейся в состоянии войны, обязательно использует политику поэтизации войны, патриотическую героику военных. Что означает поэтизация войны и героизация военных? Это, прежде всего, представление войны, в том числе и ядерной, как восхваляющее творчество – творчество, целью которого является воспевание и гуманизация военных, вооруженных сил и действий. Сюда входит так же мифологизация, эстетизация, киборгизация войны и военных, воспевание и оправдание военного вторжения, насилия, удержание победы. История знает много примеров такого творчества, применяемых военными для оправдания своих действий, использования в целях дегуманизации врага, оправдания и пропаганды боевых действий, военного преступления, мобилизации на войну, расчеловечивание и дискриминация вражеского воина. Такое мы видим сейчас каждодневно, когда с экранов телевидения и радио звучи мысль «Хороший враг – мертвый враг». В этом аспекте, для психологии ястребов войны сама по себе война автопоэтична, как снисхождение миметического насилия к некоему первоначальному состоянию человеческого сообщества.
Нужно отметить, если предоставить свободу военным, то они, как правило, установят монополию на военное насилие и практику возмездия. Пока существуют военный сегмент любого государства опасность появления и развития очагов насилие не исчезнет, до поры до времени может сохранять скрытую форму существования, вписываясь в саму структуру социальных отношений. В этом аспекте, следует признать, что во все эпохи человеческое сообщество являлось обществом контролируемых конфликтов и глубоких антагонизмов, когда война ― это не столько проявление помешательства политиков и военных, сколько попытка человечества разрешить антагонизмы при помощи иного «агрегатного состояния» насилия. Насколько войны нужны человеческому сообществу? С точки зрения философии, оперирующей глубинными категориями, война выступает универсальным истоком всего сущего. Гераклит писал: «Война (Полемос) ― отец всех, царь всех. Одних она объявляет богами, других ― людьми. Одних творит рабами, других ― свободными». По сути он утверждает, что войны необходимы и следует рассматривать их как «социальную необходимость». Философ Э. Юнгер подчеркивал, что упорное морализаторство о ненужности войн не видит «глубины», ему не доступна «сущность» войны: во-первых, войны были, есть и будут, как способ очищения пространство для новых всходов; во-вторых, война ― это тот хаос, из которого возникает порядок; в-третьих, война – это необходимое, временное бедствие, из которого возникают мир и благо.
В своей статье философ А. Дугин «Война наша мать» пишет: «…От войны не уйти и не надо пытаться… Неважно, она уже объявлена или пока ещё нет. Война не заставит себя ждать. Она предопределена. Она сзади нас, она впереди. Она вокруг…», «…Сквозь грязь и агонию, сквозь развороченные валы трупов, сквозь липкие валы страха и истошные приступы ярости проступают спокойные «готические» умиротворенные своды Иного. В войне есть тайный покой, тревожное большое да, сказанное жизни…», «…Война ― священнодействие, она безначальна и бесконечна, она подводит к сути, она возвеличивает, она дает счастье и истину…». Между тем, эти суждения являются яркими примерами базисного оправдания войн. Нынешняя философия в корне отличается от такого явления, так как обстоятельства таковы, что в современной мировой войне с применением оружий массового поражения, погибнет весь мир, все человечество, цивилизация и все живое на планете. Если в прошлых войнах человек мог увидеть и осознать предельное напряжение человека и человечества для того, чтобы восстановить новый порядок из военного хаоса, оправдывал в какой-то мере войну, то сегодня все понимают, что победителей в ядерной войне не будут, мир может уничтожен под корень. Здесь уже не уместны поэтизация, эстетизация, мифологизация, героизация, гуманизация войны и военных. В этом аспекте, возникает настоятельная необходимость серьезного осмысления сути войны, найти новые подходы к эффективной демифологизации, депоэтизизации, деэстетизации войны, сформировать новую онтологию мира.
В вышеуказанном аспекте, человеку и человечеству в целом нужно понять: во-первых, правду Ф. Ницше «не благая цель оправдывает войну, а благо войны оправдывает всякую цель»; во-вторых, правду М. Кревельда «Первоначальные цели войны будут забыты – средства займут место целей». Любое мнение или попытка рационализирования войны как средства абсурдна, по сути, ибо, автопоэтичность ее обязательно приведет к тотальному неконтролируемому, взаимному насилию. Данный механизм называется «жертвенным кризисом». Р. Жирар пишет: «Жертвенный кризис – это утрата жертвоприношения, это утрата различия между нечистым и очистительным насилием. Когда это различие утрачено, то очищение становится невозможным и в общине распространяется нечистое, заразное, то есть взаимное, насилие». В этом аспекте, нужно осознавать, что даже современная локальная война ― это жестокая плата цивилизованного человечества за возможность пережить ужас и тотальное насилие во время войны, а также долгое время после войны. Нужно всегда помнить, что после войны вирус насилия в общество сохранится еще на долгое время. В этом аспекте, в любой войне, по сути, нет никакой победы и никакого поражения, нет ни победителей, ни проигравших. Между тем, ужас эпидемии и даже пандемии вируса насилия еще долго будет терроризировать население в поствоенном периоде.
Нужно глубокое понимание людей о том, что война не может быть нормативно-регулированным средством, так как цель войны сама по себе в своей автопоэтичности отменяет любую норму: «Среди оружия законы молчат»; «Война ― это превращение человека в зверя и переворачивание всего социального порядка». Нужно помнить и то, что нет таких социальных условий, которые бы превращали озверевших в войне людей, в нормальных членов общества. Между тем, все книги, картины и фильмы, посвященные тематике постапокалипсиса свидетельствуют о том, что человек, испытавший все ужасы военного насилия становится психопатологической личностью, который в той или иной мере уже потерял человеческое в себе. По сути, они не являются людьми в полном смысле этого слова, представляя нечто вроде пограничных фигур, застрявших в зоне смешения человеческого и нечеловеческого. Война в этом смысле ― столкновение между человеческим и нечеловеческим, и война людей (своих) и нелюдей (врагов) – это наглядная форма такой ситуации.
Очевидно, во время войны притупляются все человеческие инстинкты, включая деторождение и продление человека в потомках. Закон биологии гласит: при благоприятных условиях живые организмы выбирают размножение, а в неблагоприятных условия – выбирают бессмертие, замыкаясь на инстинкте самосохранения. В отличие от животных, люди научились предвидеть и строить свою жизнь и деятельность в соответствии с прогнозом. Уже в период, когда появляются первые предвестники будущей войны, в обществе всегда падала рождаемость детей. В наше время, когда очевидность мировой войны становится все более ясной, возникла целая философия, направленная на то, чтобы человечество отказалось от рождения детей. Развитию антинатализма в мире способствует и другие глобальные угрозы человечеству (экологические, климатические и пр.). По их мнению, во-первых, снижение демографической нагрузки на планету способствует ее выживанию, а, во-вторых, не следует увеличивать количество страдающих потомков. Появилось движение VHEMT за добровольное исчезновение человечества, основанное американцем Л. Найтом. Такие мысли и суждения звучат все чаще, в том числе с трибун ООН, Римского клуба и других пацифистских и экологических движений.
Глава II
«НФ-философия» как предупреждение и предостережение человечеству
Человечество переживает эпоху сверхтехнологий, девиз которой: «Да Здравствует Их Величество Наука – Техника – Технология!». Наступило время гипертехнологической и циничной культуры постмодерна, требующая переформатирования сознания людей. К сожалению, большинство ныне живущих людей даже не помышляют о негативных последствиях новых и сверхновых технологий. А ведь на горизонте уже вырисовывается громадный вопросительный знак. Причем, очертания глобального вопроса – выживет ли человеческая цивилизация? Какова ее дальнейшая судьба? В мире быстрыми темпами развивается процесс «мегамашинизация» цивилизации – цифровизация, кибернетизация, биотехнологизация. Под их влиянием в чреве гностической научной фантастики рождаются невероятные и парадоксальные сюжеты. Причем, по большей части с темными предчувствиями фиаско сверхтехнологий, а также предощущениями развития технологического апокалипсиса. К чему приведет бесконтрольная технология роботизации, клонирования человека, генной инженерии, интерфейса искусственного интеллекта? Между тем, к сожалению, относительно мало ученых или писателей-фантастов, которые, во-первых, могут в силу своего уровня познания, мировоззрения, моральной ответственности произвольно перескакивать через дисциплинарные и теоретические границы в целях концептуальной проработки глобальных технологических проблем и обобщать мысли и суждения в русле «технологической предосторожности», а во-вторых, могут в той или иной степени указать на «правильные» направления и предположить парадоксальные, жёсткие и непривычные проекты их разрешения в целях создания необходимой подпорки для выживания человеческой цивилизации.
Научно-фантастическую литературу люди склонны оценивать, как вид словесности, главным образом, с точки зрения, во-первых, популяризации науки, новых знаний и технологий, а во-вторых, массовой культуры, её категорий и форматов. Между тем, следует оценивать их и с точки зрения философии. В этом аспекте, общей задачей «НФ-философии» является не только логическое обоснование собственной концепции «Научная фантастика как познавательная система» с последующим формированием «НФ-философии» как системно-ответственную популяризацию, концептуализацию и философизацию достижений современной науки, техники и технологий, но и как предсказание глобальных угроз и предостережение человечества от последствий их реализации. Причем, используя литературоведческий, научный, философский, социально-психологический инструментарий, в том числе обозначив своеобразие ряда авторских научно-фантастических романов, которых следует рассматривать и как философские произведения.
Моему перу принадлежит серия научно-фантастических романа: «Пересотворить человека» (2012), «Биовзлом» (2015), «Фиаско» (2015), «Биокомпьютер» (2019), «Клон дервиша» (2016), «Аватар» (2023), Ошеломленный мозг (2024), Похороны смерти (2024), Парадоксальная эволюция (2024), Искусственный гений (2024), Грядущая биовласть (2024), Воскрешенное имя (2024), Преступление автохирурга (2024). Мною издана серия социально-философских и социально-психологических сочинений: «Тегерек» (2014), «Поиск истины» (2023), «Грани отчаяния» (2014), «Проклятье Круга Зла» (2022), «Нулевой пациент» (2023), Зигзаги поступков (2024), Уроки пандемии (2024), Мистический шейх (2024), Недостаточность человека (2024), Горизонты истины (2024), Контрпродуктивное заблуждение (2024).
Нужно отметить, что указанные выше книги тематически неоднородны с литературоведческой точки зрения, но однородны с позиции философского научного труда. Потому, отнести их к массовой литературе мешает то, что их читателя массовым не назовёшь. Понять философские допущения вышеприведенных научно-фантастических и социально-философских трудов, а также результаты их осмысления и обобщения с позиции «НФ-философии» поймёт и оценит не каждый, так как состоят из множества компактной, однородной массы философских текстов. Следует отметить, что данная «компактная масса» при более глубоком рассмотрении не так уж однородна – как по глубине философской интерпретации и комментариев текста, так и по степени научности. Границы научно-фантастических и, так называемых социально-психологических романов, во многом условны, но различимы. Если первая группа романов (научно-фантастические) можно определить, как «условный цикл романов философской фантастики», то вторую группу романов (социально-философские) можно расценить как откровенную и сознательную «социально-психологическую провокацию». Однозначно, использование романов, как первой, так и второй серии романов в качестве пропаганды определённых научных, философских, социально-психологических идей и взглядов автора, касающихся злободневных и сверхактуальных «проблем-предостережений», можно считать намеренно-провокационными и, по сути, представляют собой новую форму концентрации новых философских идей, изъятых из контента научной фантастики.
В своих избранных трудах по философскому обобщению, высказанных в романах идей и мыслей: Научная концепция «НФ-философии» (2024), Трансфер сознания (2024), Переформатирование сознания (2024), Научно-мировоззренческая культура (2024), Искусственный интеллект (2024), Кибернетическая биовласть (2024), Конструирование мифа и неомифа (2024), Верификация мифа и неомифа (2024), Антропофилософские концепии Ибн Сино и современной медицины (2024), Современные проблемы трансплантологии (2024), Морально-этические императивы в трансплантологии (2024), Мораль трупного донорства (2024) пытался заострить внимание читателей на пересечение границы не только между фантастикой и реальностью, но и между реальностью и виртуальной реальностью. Там, где ещё не кончилась реальность, но уже началась условность, читателем ощущается странность наступающего времени (роман «Аватар»). Позволяя себе некий максимум свободы в воображении, мне пришлось выстраивать сюжет из того, чему только предстоит произойти и на изображение чего в обществе пока наложены строгие табу. Речь идет о клонировании человека, генной модификации человека, создания нового Сознания с помощью интерфейса человека и искусственного интеллекта, деперсонализации хирурга в условиях роботохирургии и пр. На мой взгляд, романы можно отнести к когистике (от cogito – мыслить), указывая на то, что их основа – не умозрение и утопия, а научный прогноз тенденций той или иной технологии будущего, так как в качестве «логического и паралогического типов фантастического текста», в них художественно обыгрываются разнообразные научно-технологические темы.
В рамках серии научно-фантастических и социально-философских романов, на мой взгляд, созрели относительно однотипные темы: во-первых, техногнозис сознания; во-вторых, трансфера сознания; в-третьих, переформатирования сознания; в-четвертых, нового сознания. Мною решено оформит первый цикл отдельно в виде трехтомника. Таким образом, цикл «НФ-философия» построен как «прогноз-предостережение», прослеживающего динамику проблемы и специфики: во-первых, теоретических конструктов «НФ-философии» в виде познавательной системы; во-вторых, эволюции и трансфера сознания на примере трансплантации головного мозга; в-третьих, переформатирования сознания в условиях роботохирургии. Такая композиция выбрана мною намеренно, желая последовательно показать этапы приближения «нового сознания», тем самым помогая осознать сингулярность нашего мира, подготавливая читателя к грядущим глобальным изменениям, связанных с технологизацией и биотрансформацией природы самого человека.
Бывает, что не каждому и не так просто исчерпывающе понять фантастические допущения и мысли, заложенные в научной фантастике, понять какие философские посылы вложены в научно-фантастические тексты. «Есть только одно средство расположить простой народ к философии; оно состоит в том, чтобы показать ее практическую полезность», – вот кредо сторонников практической философии. В этом плане, мысль, вложенная в научную фантастику, в особенности в «НФ-философию», не должна отрываться от реальной действительности. Иначе говоря, они должны быть практическими, когда философские мысли и идеи, отраженные в них должна найти реальный пример их воплощения в общественной практике. В этом аспекте, одной из задач «НФ-философии» является не только сопоставление и связывание фактов, имеющихся в ее распоряжении от научной фантастики, но и умом проверять ум «А что если…?».