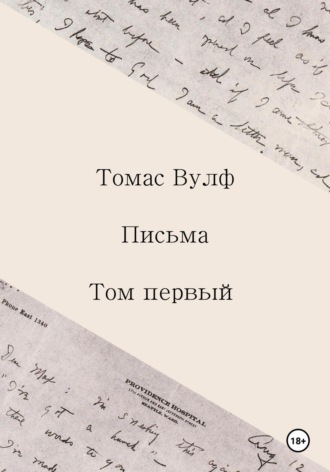
Полная версия
Письма. Том первый
Луизе Маккради
[Нью-Йорк]
[20 июня 1922 года]
Дорогая мисс Маккради: Телеграмма, извещающая об ожидаемой смерти моего отца, заставила меня вернуться домой. Я уехал за два часа и не смог повидаться с вами. Как только вернусь домой, отправлю свою фотографию. Не могли бы вы послать им записку с объяснением обстоятельств? Я напишу вам письмо как можно скорее.
Луизе Маккради
Спрус-Стрит, 48
Эшвилл, штат Северная Каролина
Суббота, 26 августа 1922 года
Дорогая мисс Маккради:
В письме из вашего офиса мне сообщили, что вы уехали в Европу на лето. Надеюсь, вы проведете очень приятный отпуск. … Я сожалею лишь о том, что задержался с ответом на предложение руководства Северо-Западного университета о преподавании на кафедре английского языка. Однако, когда я объясню обстоятельства, вызвавшие эту задержку, я уверен, что вы поймете и простите меня. После смерти моего отца дела дома были крайне неустроенными, и только недавно я окончательно понял, должен ли я остаться дома с матерью, принять предложение Северо-Западного университета или вернуться в Гарвард еще на один год к профессору Бейкеру. Сейчас мои финансы находятся в таком состоянии, что я могу вернуться в Гарвард еще на год. [Вулф, очевидно, заручился согласием матери на поступление в «47-ю Студию» на третий год. Финансирование его трехлетнего обучения в Гарварде было сложным делом, которое лучше всего объясняется в его письме Фреду Вулфу от 22 января 1938 года. Изначально он убедил мать отпустить его в Гарвард на один год, предложив вычесть расходы из его наследства в 5000 долларов, оставленного ему по завещанию отца. Позже, когда он остался в Гарварде еще на два года, о вычете этих дополнительных расходов из наследства не упоминалось. Однако, когда завещание мистера Вулфа было исполнено, выяснилось, что его имущество уменьшилось настолько, что завещанные каждому из его детей 5000 долларов не могли быть выплачены. В связи с этим Вулф подписал бумагу об отказе от претензий на свои 5000 долларов в обмен на деньги, которые он получал в течение трех лет обучения в Гарварде]. Профессор Бейкер был так неизменно добр ко мне, я верю, что этот дополнительный год, который теперь стал возможен, будет иметь для меня огромное значение.
Единственное, что могло бы нарушить мое счастье от перспективы возвращения, – это мысль о том, что мой запоздалый ответ причинил серьезные неудобства моим друзьям в Гарвардском Бюро и всем с Северо-Западна, кто своей необычайной добротой и сочувствием заставил меня жаждать встречи с ними.
Мне приятно думать, что через некоторое время я возобновлю с вами знакомство.
Маргарет Робертс
[Эшвилл, штат Северная Каролина?]
[Сентябрь, 1922 года?]
[…] приехав домой в последний раз, я собрал достаточно дополнительного материала, чтобы написать новую пьесу [«Ниггертаун», которая в конце концов стала «Добро пожаловать в наш город»] – второй залп битвы. То, что я считал наивным и простым, оказалось старым и злым, как ад; в нас бродит дух мирового зла, со всей изощренностью сатаны. Жадность, жадность, жадность – преднамеренная, хитрая, мотивированная – прикрывается общественными объединениями для улучшения жизни города. Отвратительное зрелище, когда тысячи трудолюбивых и опытных адвокатов, занятых взаимным и систематическим выполнением своей профессии, солят свои редакционные статьи, проповеди и рекламные объявления религиозными и философскими банальностями доктора Фрэнка Крейна, [Доктор Фрэнк Крейн (1861-1920), методистский священник, чьи благочестивые и банальные эссе печатались в газетах в 1920-х годах] Эдгара А. Госта [Эдгар А. Гост (1881-1959), американский писатель сентиментального стиха английского происхождения. Его народные, морализаторские стихотворения широко распространялись и были чрезвычайно популярны в Соединенных Штатах] и «Американского журнала» [Издательство «Экроуэлл», Спрингфилд, Огайо]. Эталонами национального величия являются Генри Форд, который сделал автомобили достаточно дешевыми для всех нас, и деньги, деньги, деньги!!! И Томас А. Эдисон, подаривший нам телесную легкость и комфорт. Процветают плуты, жадины и свинопасы. Есть три способа, и только три, добиться отличия: (1) деньги, (2) больше денег, (3) много денег. И способ их получения не имеет значения.
Среди молодых людей здесь есть один, который две трети своего времени проводит в аптеке, и он смело, как бы хвастаясь, заявляет, что собирается «жениться на деньгах». Отец этого мальчика… честный, трудолюбивый, прямолинейный человек, который каждое утро идет на работу с жестяной тарелкой, покачивающейся в его руке. А мальчик в это время разъезжает по улицам города в погоне за своими амбициями на шикарном спидстере, который он выкупил у этих трудолюбивых людей… Другой парень, из хорошей, но обычной семьи, который несколько месяцев назад с презрением или безразличием отвергал все свои ухаживания, имеет неограниченное количество денег и на часть из них купил дорогой родстер, как глупый парень. Теперь они слетаются к нему, как мухи, и питаются его щедротами.
Это лишь мелкие и ничтожные вещи, которые я мог бы множить до бесконечности. Но что делать с более темными и мерзкими вещами? Как быть со старой похотью и старческим разложением, которые облекают себя в респектабельность и ползут на кошачьих лапах по запятнанным порталам своего собственного греха? Что делать с вещами, которые мы знаем, и которые знают все, и на которые мы подмигиваем, делая мораль, о которой мы твердим, благоразумной? Уверяю вас, я не бесплоден в иллюстрациях такого рода. Эмоции, которые я испытываю, – это отвращение, а не возмущение. Моральная нечистоплотность на физическом уровне не вызывает у меня глубокой обиды – возможно, мне было бы жаль признаться в этом, – но мое отношение к жизни стало, так или иначе, настороженным, поддерживающим и никогда не теряющим интереса, но очень редко шокированным или удивленным тем, что делают люди. Человеческая природа способна на бесконечное разнообразие вещей. Давайте осознаем это как можно раньше и избавим себя от проблем и детского оцепенения в дальнейшем. Я слишком сильно хочу быть художником, чтобы начать «играть в жизнь» сейчас и видеть ее сквозь розовую или винную дымку. В самом деле, я настолько аморален, что меня не очень волнует, как ведет себя животное, пока оно следит за своим поведением в пределах своего луга. Великие люди эпохи Возрождения, как в Италии, так и в Англии, кажутся мне удивительной смесью Бога и зверя. Но «в те дни в мире были гиганты», и время их простит. Какое значение имеют их пороки сейчас? Они оставили нам Мону Лизу. Но что делать с этой тусклой дрянью, которая оставляет нам лишь горечь и посредственность? Пусть свиньи…
[часть письма отсутствует]
Полагаю, алармист имеет в виду, что придет время, когда сила нашей национальной жизни увянет и придет в упадок, подобно тому как все предыдущие национальные жизни отслужили свой срок, увяли, пришли в упадок и ушли в прошлое. Но что в этом может удивить или встревожить нас? Конечно, у нации не больше оснований ожидать нетленности, чем у отдельного человека. И отнюдь не очевидно, что долгая жизнь, будь то человек или нация, является лучшей. [Написано на левом поле рядом с этим рукой миссис Робертс: «Это американская жизнь»] Возможно, наши притязания на славу, когда наша страница будет вписана в мировую историю, будут основываться на каком-то достижении, подобном этому: «Американцы были мощными организаторами и обладали большим талантом к практическим научным достижениям. Они добились огромных успехов в области здравоохранения и увеличили среднюю продолжительность человеческой жизни на двенадцать лет. Их города, хотя и чрезвычайно уродливые, были образцами санитарии; их нация в конце концов была погружена в воду и уничтожена под пагубной и сентиментальной политической теорией человеческого равенства».
Я не говорю, что это совершенно низменное, подлое или никчемное дело. Это будет очень большое достижение, но в нем не осталось места для поэтов. А когда умирают поэты, смерть нации обеспечена.
Что ж, я вернулся ко всему этому в полночь. Огонь в очаге догорел до теплых угольков. Ночью ревет ветер, улицы пусты, и мои «осенние листья» уже падают на крышу сухим, неопределенным дождем. В воздухе витает запах смерти…
[на этом письмо обрывается]
По воспоминаниям Уильяма Э. Харриса, который в это время был членом «Мастерской 47», Вулф представил профессору Бейкеру первые акты шести разных пьес в начале осени 1922 года, прежде чем приступил к работе над «Ниггертауном» (который в итоге стал «Добро пожаловать в наш город»). Пьеса, о которой идет речь в следующем письме, вероятно, одна из этих шести. Фрагменты пьесы, найденные среди бумаг Вулфа, касаются героя по имени Юджин Рамзсей, чья жажда знаний очень похожа на жажду самого Вулфа, и профессора по имени Уилсон или Уэлдон, который несколько напоминает Горация Уильямса.
Джорджу Пирсу Бейкеру [*]
[ Кембридж, Массачусетс]
[Сентябрь или октябрь 1922 года (?)]
Дорогой профессор Бейкер!
Прилагаю к сему первый акт пьесы (всего их три), а два других даю в кратком пересказе. Я настолько потерял в себе уверенность, настолько обуреваем сомнениями и дурными предчувствиями, что сначала хотел бы узнать Ваше мнение и только после этого продолжать.
Это моя первая попытка написать так называемую проблемную пьесу. В ней пойдет речь об общечеловеческих духовных проблемах, а не о вопросах социальных и экономических, которые меня мало интересуют. Я буду говорить о том, что вижу и понимаю, и мне будет очень жаль, если язык пьесы покажется усложненным и непонятным. Но если все вокруг нас подвержено по постоянному изменению, где же отыскать твердый, постоянный, неизменный принцип бытия? Иначе выражаясь, где отыскать Абсолют? Мы построили гигантскую механическую цивилизацию, и ее каждодневные потребности приводят к нарастающему усложнению и прогрессирующей хаотичности нашего существования. В последней главе своей замечательной книги «Воспитание Генри Адамса» Адамс, вернувшись в Нью-Йорк после длительного отсутствия, испытывает именно это ощущение, когда смотрит на причудливо-беспорядочные очертания нью-йоркских небоскребов. Цивилизация взорвана. Где в этом хаосе, торжестве механической силы и беспорядка таится тот самый объединяющий, упорядочивающий принцип, отыскать который вознамерился Адамс, нахождение которого и составляло главную цель воспитания его духовного «я»? Адамс отправляется в Вашингтон и находит там своего друга Джона Хея [Джон Мильтон Хей (1838–1905) – американский политический деятель, писатель], человека блестящих способностей, совершенно обессилевшим, не выдержавшим напряжения существования в этом чудовищном новом мире. Насколько я могу понять, для Адамса Хей воплощал собой то лучшее, что можно было бы противопоставить этой новой цивилизации. Но он уже не борец. Он уже не годится. Надо создать новый тип личности.
Но как это сделать? В первом действии моей пьесы я пытаюсь поставить эту проблему. Когда юный герой Рамсей говорит философу профессору Уилсону, что временами ему кажется он опоздал родиться на семь столетий, он выражает свое искреннее убеждение. Адамс указывал на ту пропасть, что отделяет ХІІІ век, отличавшийся единством, от плюралистического ХХ века. Обратите внимание на фигуру Рамсея. Он тоже в процессе становления, его «воспитание» это попытка уловить и понять современность в ее целостности. Он знает об ограниченности Средних веков, их сравнительном невежестве и суевериях, но он также знает и о том, какие перспективы реализации они открывали перед студентом. Рамсей мог представить себя принимающим приказ и отправляющимся в монастырь в XIII веке. Там он мог бы провести годы в своей келье, изучая драгоценную коллекцию рукописей монастыря – не так уж много, впрочем, для жизни. Он знал бы Платона и Аристотеля почти наизусть, был бы хорошо начитан в схоластической философии и, возможно, сам лично (в безопасности от любопытных глаз толстого аббата) освежался бы в минуты отдыха Гомером и драматическими произведениями.
Вряд ли кого-то так уж заинтересует история мучительных взаимоотношений Рамсея с миром книг. Именно поэтому Я говорю о них лишь мимоходом Думаю, что специфика драматического искусства требует уделить основное внимание его не менее мучительным взаимоотношениям с окружающей действительностью. Но все же, когда Рамсей рассказывает, как бродил между бесконечными, заставленными книгами библиотечными полками, словно некий неприкаянный дух в поисках недостижимого, он говорит о том, что доставляло ему острую боль. Какую бесконечную малость из того, что содержится в этих книгах, может он освоить обуреваемый жаждой знания, он и тут не в состоянии стать хозяином положения. Его приводит в ярость мысль о том, что какая-то праздная женщина, наевшаяся до отвала новейшей беллетристики, может со знанием дела говорить об этой, той или другой книге, до которой он не дошел. Рамсей страстно желает, чтобы вместо того, чтобы было слишком мало науки…
[часть письма отсутствует]
…знает, что если он потеряет это, то потеряет и себя. Затем мы видим, как его подхватывает течение. Сбивающие с толку перекрестные течения этой жизни, к которым он неистово пытается применить свою философию и для которых она оказывается неполной и неадекватной, начинают захлестывать его. Он осознает, что настолько приспособил свою философию к каждому случаю, который ее отрицает, что она потеряла свое первоначальное качество и превратилась в простого агента целесообразности, с помощью которого он пытается найти – но что?
Как я уже давно должен был пояснить, Рамсей намерен постичь жизнь через литературное творчество. Он работает в городской газете (правда, об этом в пьесе лишь упоминается). Снова и снова он пробует писать, но то, что выходит из-под его пера, огорчает его своей неполнотой и он рвет написанное. Его не удовлетворяет единичное, частное, он намерен в каждом из своих героев воплотить всеобщее, через часть изобразить целое. Сначала он внушает себе: «Сейчас я ничего писать не стану. Но через пять лет я накоплю жизненный опыт. Вот тогда-то я и смогу дать панорамное изображение нашей жизни». Но исподволь в нем растет убеждение, что через пять лет ощущение неполноты станет еще острее. Рамсея страшно раздражает точка зрения, согласно которой тому или иному писателю, например Диккенсу, удалось постичь жизнь человеческую в ее полноте. Сам он очень любит Диккенса, но ясно видит, что Диккенс, как и многие другие писатели, не отличался широтой охвата. Диккенс знает лишь одну сторону жизни, хотя, конечно, знает ее превосходно.
Возможно, в интересах самого же Рамсея научиться себя ограничивать. Здравый смысл подсказывает ему, что в данной ситуации лишь умение ограничить себя чем-то одним способно принести хорошие плоды. Но вселившийся в него демон не дает доводам разума взять верх.
Как Вы, наверное, уже догадались, в этот образ я вложил немало личного. Не следует, однако, полностью отождествлять меня с Рамсеем. Я хотел изобразить человека, страдающего не столько от отсутствия сил, сколько от их переизбытка. Такова ирония обстоятельств. Давайте сравним Кольриджа и Вордсворта. Кольридж был наделен более глубоким и многогранным талантом. Но именно в этом-то и заключалась его беда. Блистательное начало «Кристабель» и «Сказание о Старом мореходе» он написал еще юношей затем так и не получило продолжения, его беспокойный гений пробовал себя то в поэзии, то в науке, то в философии. Снова и снова выбирая новое направление, Кольридж всякий раз останавливался на полдороге. Что же касается Вордсворта, то, обладая дарованием хоть и не столь разносторонним, но ровным и целенаправленным, он на всю жизнь сохранил приверженность определенному кругу поэтических тем и делал то, что у него хорошо получалось. И не стану отрицать из них двоих Вордсворт (если судить по написанному) более крупный поэт.
Или возьмите хотя бы Леонардо, который уделял так мало времени живописи, потому что строил каналы, изучал, как летают птицы, и мечтал о полетах человека, был инженером, геологом, астрономом, физиком и так далее.
[на этом письмо обрывается]
Пьеса, о которой идет речь в следующем письме, вероятно, была одной из шести, о написании которых Вулф думал в начале осени 1922 года.
Джорджу Пирсу Бейкеру
[Кембридж, штат Массачусетс]
[осень, 1922?]
Сэр:
Фигура, вокруг которой вращается эта пьеса, наведет тех, кто знает ее, на мысль о Джонатане Свифте. Но я хочу пояснить, что это не биографическая пьеса. Свифт ответственен за [нее] – это правда, но из его персонажа я сделал свою собственную пьесу. Прочитав недавно «Свифта» Лесли Стивена, я был поражен его огромной человечностью. Перед нами действительно дикий мизантроп. Он относится к людям не с благородным или терпеливым презрением Альцеста, а с ужасной ненавистью: он обрушивает на них испепеляющий огонь непревзойденного сатирического таланта. Но когда я говорю, что он ненавидел людей, я имею в виду ту твердую холодную массу, из которой состоит мир.
Потрясающая антитеза возникает, когда мы рассматриваем удивительную любовь и преданность Свифта к своим друзьям; его крайнюю скупость, которую он практикует, чтобы быть более щедрым к друзьям и иждивенцам. Подумайте о патетическом контрасте этого мрачного, горького старика, который, тем не менее, с почти женским страхом и трепетом держит письмо от больного друга нераспечатанным в течение пяти дней, потому что боится плохих новостей: или о горе, которое он скрывает под суровостью, при смерти друга, когда он говорит нам никогда не выбирать больного или слабого человека в друзья, потому что опасность и беспокойство при их потере так велики.
[на этом письмо обрывается]
Следующий короткий фрагмент, очевидно, является частью письма, которое Вулф представил профессору Бейкеру вместе с пьесой под названием «Люди». Вероятно, это одна из шести пьес, которые он начал писать осенью 1922 года.
Джорджу Пирсу Бейкеру
[Кембридж, Массачусетс]
[осень, 1922]
Дорогой профессор Бейкер:
В этой пьесе я надеюсь воплотить некоторые идеи, которые роились в моем сознании относительно вечной войны, которая ведется между индивидуумом и обществом. Вымысел, который я придумал для драматизации этих идей, достаточно очевиден, как мне кажется, уже в первой сцене. Остальную часть пьесы я набросаю вкратце так: в сцене II мы видим ярмарку и народ, который является своего рода хором в пьесе. В различных шатрах и киосках, под видом «балаганщиков» и глашатаев, я предлагаю поочередно показать…
[на этом письмо обрывается]
Джулии Элизабет Вулф
Кембридж, штат Массачусетс
Пятница, 1 декабря 1922 года
Дорогая мама:
Я надеялся успеть отправить письмо ко Дню Благодарения, но оно не было закончено вовремя, поэтому я пишу тебе сегодня еще раз. Надеюсь, вы все хорошо провели праздник. Я провел его у профессора Бейкера и очень хорошо наелся индейки, клюквенного соуса и всего остального. День Благодарения – прежде всего праздник Новой Англии, как ты знаешь. Вечером мы отправились в театр. Единственное, что помешало моему полному удовольствию, – сильная простуда, от которой я только что оправился.
Я был очень рад услышать о твоем успехе с лотами Брайан-Кнолл. [лоты Брайна-Кнолл – так миссис Вулф назвала недвижимость, которую она приобрела весной того года у Уильяма Дженнингса Брайана] Возможно, хорошо, что ты не продала их все, поскольку весной рынок может быть лучше. Конечно, жаль, что так получилось с Мюрреем, но ты, похоже, полностью обеспечена. Купили ли евреи участок на Мердок-Авеню?
Я рад слышать о твоей предполагаемой поездке во Флориду, но мне жаль, что она ведет тебя в противоположном направлении. Возможно, ты смогла бы продержаться здесь некоторое время, хотя здешний климат может быть таким же неприятным, как и любой другой, который я знаю.
На днях у нас выпал первый в этом году снег, за которым последовала холодная погода. Результат – эпидемия простуды, как у меня. Я закончил пролог и первый акт своей пьесы, и они очень понравились. Сейчас я работаю над вторым актом и намерен закончить все три к Рождеству.
Надеюсь, у тебя тепло дома, много теплой одежды и достаточно еды. О. К. Х. [Олд Кентукки Хоум – пансион миссис Вулф по адресу Спрус-Стрит, 48, в Эшвилле, штат Северная Каролина] – не самое лучшее место для зимнего отдыха. Думаю, ты правильна делаешь, что держишься за него. Когда-нибудь он будет стоить гораздо больше.
Я искал свои книги и даже объехал все товарные склады здесь и в Бостоне, но они до сих пор не пришли.
Дядя Генри и тетя Лора продолжают ладить друг с другом, как два воркующих голубка. Они передают привет. Я вижу их очень часто. В последний раз, когда я был в гостях, появился Гарольд [Гарольд Уэсталл, двоюродный брат Тома, сын мистера и миссис Х. А. Уэсталл]. Это их огромный толстый сын, неженатый, он работает на почте. Боже, спаси нас! Если все особенности Элмера, [Элмер Капан Уэсталл, брат миссис Вулф, торговец пиломатериалами в Эшвилле, штат Северная Каролина] Бахуса [Бахус Уэсталл, дядя миссис Вулф по отцовской линии] и дяди Генри соединили, они бы не произвели такого эффекта.
Он был гостем на ужине и принес свой хлеб, который купил в булочной. Откуда у них такие странные представления о еде? У дяди Генри они тоже есть. Во всяком случае, они были добры ко мне. Помни об этом.
Не отдавай Эффи Вулф [Эффи Вулф, жена У. О. Вулфа-младшего, сына Уэсли Вулфа, брата отца Тома] книгу «Гарвардская классика». Я не крал его у нее, я украл его у друга, в Чапел-Хилле. Если не ошибаюсь, это томик хроник – Фруассар, Мэлори, Холиншед. Владельцем был Джон Эйкок, [студент университета Северной Каролины] – сын нашего бывшего губернатора. Что я сделал с ней, если она вообще у меня была, а я полагаю, что она у меня была, я не знаю. Передай ей, что я верну книгу, как только она вернет Мопассана, которого получила от Мейбл. Во всяком случае, если это не ее книга, она ей не нужна, если у нее есть полное собрание.
Я рад, что ты покупаешь книжную «Классику». Это прекрасные книги, они хорошо подобраны. Вчера вечером (в День Благодарения) профессор Бейкер сводил меня посмотреть «Оперу нищего» – первую музыкальную комедию, написанную в 1728 году мистером Джоном Геем из Лондона. Мы вернулись после спектакля и познакомились с труппой – розовощекими англичанками, приехавшими из Лондона. Они были очень милы и приятны, а само представление – забавным и мелодичным, намного лучше, чем наши современные музыкальные шоу.
Пожалуйста, напиши и сообщи мне, как обстоят дела и как твое здоровье. С любовью и наилучшими пожеланиями всем.
Твой сын,
Том
Джулии Элизабет Вулф
Кембридж
Четверг, 4 января 1923 года
Дорогая мама:
Сегодня утром я получила твое письмо, я очень переживаю из-за твоей простуды. Пожалуйста, избегай повторения таких неприятностей, какие были у тебя несколько недель назад. Держись в тепле и ешь достаточно хорошей пищи. Надеюсь, ты избежишь большей части погоды, которая сейчас стоит у нас. Вчера днем начался снегопад, а сегодня утром выпало уже более фута снега. Я купил пару калош во время праздников (за 95 центов) и ношу их. Я пытаюсь найти большую пару арктических калош, которые я купил в прошлом году, но не могу найти их среди своих вещей. Не могла бы ты посмотреть, не оставил ли я их дома. Это большие тяжелые калоши с железными пряжками, они полностью закрывают обувь. Если найдешь, пришли их мне. Снег сегодня очень красивый, но я знаю, что будет ужасно, когда он растает. Во время праздников у нас выпал еще один фут снега, но этот глубже.
Спасибо за вырезку из газеты. Я виделся с мистером Кохом, когда он был здесь, мы сидели и разговаривали до двух часов ночи.
Я написал Фрэнку и Дитзи, поблагодарив их за носки, и собираюсь написать Эффи [Эффи, сестра Тома, ее муж – Фред Уордлоу Гамбрелл из Андерсона, штат Северная Каролина] прямо сейчас.
Конфеты Мейбл пришли немного помятые, но очень вкусные.
За время каникул я закончил еще одну сцену пьесы, но большую часть времени читал. В этом году я собираюсь закончить по меньшей мере три пьесы и каждый вечер молиться, чтобы хоть одна из них попала в Нью-Йорк. Если бы мне удалось добиться хотя бы небольшого успеха – три или четыре месяца – это сделало бы из меня человека. Это величайшее искусство в мире – выше живописи, скульптуры и написания романов – потому что оно так душераздирающе.
Сегодня утром секретарша профессора Бейкера, мисс Манро, подарила мне пишущую машинку «Корона». Она не согласилась ни сдать ее в аренду, ни продать, а отдала ее мне прямо в руки, и теперь я буду печатать на ней, стараясь экономить на наборе текста. Придется когда-нибудь научиться печатать, и теперь это будет лучшая возможность





