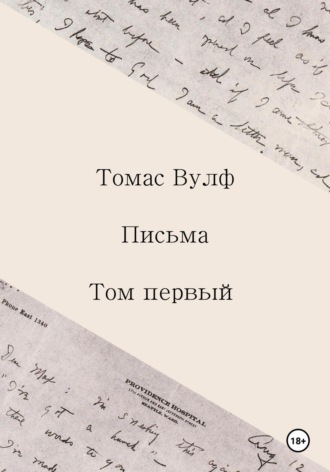
Полная версия
Письма. Том первый
В воскресенье вечером я спустился в город и посмотрел, как толпы людей встречают Новый год. Все выглядели счастливыми, было много шума и криков, но, почему-то, приход Нового года всегда навевает на меня грусть: не знаю, почему. Человек – такое смертное, бренное создание, и кажется, что это немного похоже на размахиванием перед его лицом новости о том, что у него есть еще один год до того, как он тоже станет пылью, с корнями деревьев, вплетенными в его кости.
Есть что-то печальное и пугающее в больших семьях – в последнее время я часто думаю о своем детстве: о тех часах в теплой постели зимним утром; о первом звонке колокола на Оранж-Стрит; о большом папином голосе, кричащем с подножия лестницы «вставай, мальчик», а затем о том, как я мчусь вниз по лестнице, как холодный кролик, со всей своей одеждой и бельем в руках. Когда я прохожу через холодную столовую, я слышу веселый гул большого камина, который он всегда разжигал в гостиной. Мы одевались и грелись у этого камина. Потом завтрак – овсянка, сосиски, яйца, горячий кофе, ты укладываешь в бумажный пакет пару толстых бутербродов с мясом. Потом последний рывок в школу с Беном или Фредом и долгая пробежка вверх по холму Центральной Авеню, где один из них тянул или толкал меня за собой.
Очень грустно осознавать, что нельзя вспомнить все это, но что-то осталось в воспоминаниях; даже если бы все были живы, нельзя вернуть ушедшее время.
Иногда Бен и папа кажутся такими далекими, что хочется спросить, не сон ли это. И снова они возвращаются так ярко, как будто я видел их вчера. Каждая интонация их голоса, каждая особенность их выражения выгравированы в моем сознании – все же кажется странным, что все это могло произойти со мной, что я был частью этого. Когда-нибудь я ожидаю, что проснусь и пойму, что вся моя жизнь была сном. Думаю, мы все это чувствуем:
«Мы – такой материал, из которого делают сны, и наша маленькая жизнь окружена сном».
Мы размачиваем наш хлеб в слезах и глотаем его с горечью. Кажется невероятным, что человек, к которому я когда-то прикасался, который держал меня на коленях, который дарил мне подарки и говорил со мной тоном, отличным от всех остальных, теперь неузнаваемо истлел в земле.
Такие вещи могут происходить с другими, и мы им верим; но когда они происходят с нами, мы им не верим – никогда!
И все же каким-то образом, несмотря на все уговоры моего разума, несмотря на неумолимое и неоспоримое зрелище всеобщей смерти, я не убоюсь зла. Почти, как мне хочется сказать, я буду верить в Бога, да, несмотря на церковь и священнослужителей.
Пожалуйста, напиши мне немедленно и всячески заботься о себе. Я здоров и неустанно работаю над своей пьесой.
Твой сын,
Том
Джулии Элизабет Вулф
Кембридж, штат Массачусетс
14 января 1923 года
Дорогая мама:
Я получил твою открытку из Майами и был очень удивлен твоим внезапным отъездом из дома, но я очень рад узнать, что ты поступила очень разумно. По крайней мере, теперь ты можешь не заболеть простудой и быть подальше от сырой погоды; беда сильной простуды, какая была у тебя в начале зимы, в том, что она упорно держится из месяца в месяц, а при переменной температуре в Эшвилле это затрудняет выздоровление.
Это самая суровая зима из всех, что нам доводилось видеть. На днях я прочитал, что в Новой Англии этой зимой было двадцать четыре снегопада. За последнее время у нас было два снегопада, каждый более чем на фут (30 сантиметров). В одно время, когда на земле было восемнадцать дюймов, (45 сантиметров) начался сильный дождь, который продолжался достаточно долго, чтобы превратить этот снег в мокрую кашицу; затем снег замерз и был покрыт еще одним футом снега.
Сегодня прекрасный день, небо голубое, но я очень сомневаюсь, что мы увидим нашу Мать-Землю до весны.
Сегодня утром пришла открытка от Мейбл; она пишет, что вернется в феврале, но я искренне надеюсь, что ты будешь во Флориде до конца зимы, то есть до 15 марта. Польза для твоего здоровья и общего благополучия будет безграничной. Трудность, которую приходится преодолевать людям, много работающим, заключается в том, чтобы научиться отдыхать; невообразимые и безымянные страхи, что все идет не так, как надо, угнетают их; они спешат домой и, конечно же, обнаруживают, что дела обстоят точно так же, как они их оставили. Я уверен, что ты найдешь Эшвилл, участки в Гроув-Парке и О. К. Х. (Олд Кентукки Хоум – пансионат матери Вулфа) на своих же местах, вернешься ли ты сейчас или подождешь до середины марта. Я не думаю, что твое присутствие дома повысит цены на недвижимость в Эшвилле; конечно, приятнее будет подождать и вернуться, чтобы обнаружить, что твоя собственность удвоилась в цене.
Я получил книги; экспресс-доставка стоила 6 долларов и 8 центов, но я знаю, что это был единственный доступный способ их пересылки. Я очень рад, что получил их; я чувствую себя уверенно и комфортно, когда они у меня. Я люблю книги, думаю, даже больше, чем девушек. Ибо я устаю от девушек; я покидаю их одну за другой, чтобы никогда не возвращаться; но я никогда не покидаю свои книги, они – джинны и волшебники, готовые в любой момент исполнить мою просьбу. Кстати, я не встречался ни с одной девушкой с Нового года и за месяц до него.
Я постоянно читаю и пишу: в среду (послезавтра) я прочту классу свою пьесу полностью и тогда сообщу тебе их мнение. Я не пощадил ни себя, ни того, о чем писал: в некотором смысле я чувствую, что драматически выразил современный Юг: каковы будут достоинства пьесы [«Горы»], я не берусь сказать. Пожалуйста, поскорее отправь мне письмо, я надеюсь, что ты не будешь поспешно и необдуманно возвращаться домой.
Я здоров и немного прибавил в весе. Пожалуйста, следи за своим здоровьем и прими все возможные меры, чтобы обеспечить себе комфорт.
С любовью твой сын,
Том
Следующее письмо Вулфа к его кузине Элейн Уэсталл Гулд, дочери Генри А. Уэсталла, очевидно, было вызвано критикой «Добро пожаловать в наш город», которую она сделала по просьбе Вулфа.
Элейн Уэсталл Гоулд
[21 Троубридж Стрит]
[Кембридж, Массачусетс]
[14 января (?) 1923 года]
Моя дорогая Элейн:
Твое письмо было прочитано с большим интересом, и я возвращаю свою благодарность за многие ценные материалы, которые ты сделала. Я не думаю, как ты предполагаешь, что между нами есть какое-то фундаментальное различие в том, что такое пьеса; скорее, я думаю, есть недопонимание того, какую пьесу я написал, и того, о чем эта пьеса в первую очередь. Я не сомневаюсь, что, когда я перейду к критике, я столкнусь с теми же трудностями с другими людьми, и я знаю, что это трудность, с которой нужно считаться, поскольку я не могу надеяться на то, что смогу охватить широкую аудиторию, обладающую достаточным интеллектом.
Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что пьеса не посвящена какой-либо проблеме – и уж тем более проблеме негров. Я ничего не пытаюсь решить, ничего не хочу доказать – мне не нужны решения.
Моя пьеса призвана дать представление об определенной части жизни, определенной цивилизации, определенном обществе. Меня не устраивает ничего, кроме целостной картины, меня не волнует ничего другого. Расовый аспект картины поначалу намеренно рассеян среди других элементов, он постепенно выходит на поверхность, пока в конце не заслоняет собой всю картину. Нет нужды уверять вас, жителей Юга, что роль, которую играет этот персонаж, не является непропорциональной. Это не так.
И вот тут, как мне кажется, ты зацепилась, решив, что я написал две пьесы вместо одной. Конечно, людям, воспитанным на театре последних двадцати лет, порой трудно приспособиться к более свободной и экспрессивной структуре такой пьесы, какую написал я. Разум привык к старым формам, к трех-, четырех- и пяти актным формам, и адаптируется с трудом.
[на этом письмо обрывается]
Пьеса «Добро пожаловать в наш город» была выбрана для постановки «47-ой Студии» и действительно была поставлена 11 и 12 мая 1923 года. Вулф, очевидно, написал следующее письмо профессору Бейкеру, когда было объявлено о выборе пьесы.
Джорджу Пирсу Бейкеру
[Кембридж, штат Массачусетс]
Воскресный вечер
[январь или февраль 1923 года]
Прилагаю список людей и декораций, необходимых для моей пьесы. Как я уже сказал, я думаю, что ее можно сделать с двумя дюжинами человек, возможно, с меньшим числом.
Я предоставляю вам пьесу в моих страшных каракулях и без всякой правки. Я чувствую, что многие сцены могут быть усилены введением более сатирического материала, большая часть которого написана мной.
Любой человек, я думаю, с сомнением относится к вопросу о пересмотре пьесы. Зачастую это не что иное, как выкладывание плитки по принципу «попади или не попади». Я знаю только одно правило и думаю, что оно охватывает все дело. Пересматривать с единственной целью – написать лучшую пьесу. Это означает, по возможности, сделать каждую сцену лучше, короче, прямее и экономнее в использовании людей. В том, что я смогу сделать это вовремя, у меня нет ни малейших сомнений: в том, что это удастся сделать за двадцать четыре часа, или два дня, или полнедели, я не так уверен.
Я думаю, что таким образом я излагаю свою позицию с учетом этого возможного дополнения: мне было бы жаль думать, что пристальное внимание к уместности, непосредственной связи каждой сцены и инцидента с главной проблемой – проблемой негров – скроет от вас тот факт, что я знал, что хотел сделать, от начала и до конца. С каким успехом я это сделал, я не могу даже предположить. Но запомните, пожалуйста, следующее: пьеса о негре, пьеса, в которой каждая сцена непосредственно связана с негром, пьеса, в которой негр постоянно находится перед вами, может быть, и была бы лучшей пьесой, но это была бы не та пьеса, которую я начал писать. Я хотел бы, чтобы вы помнили об этом, когда будете читать предложенную сцену (VIII) – кубистическую, постимпрессионистскую сцену политика. Она нуждается в пересмотре, но мне бы не хотелось ее потерять. Это часть картины, часть общего целого.
Я написал эту пьесу с тридцатью с лишним названными персонажами, потому что она того требовала, а не потому, что не знал, как сэкономить краски. Когда-нибудь я напишу пьесу с пятьюдесятью, восьмьюдесятью, сотней людей – целый город, целая раса, целая эпоха – для облегчения и успокоения моей души. Возможно, никто не захочет ее ставить, но это будет интересная пьеса.
А в следующей, которую я напишу, будет восемь, десять, но точно не больше дюжины.
Если вам понадобится расшифровщик для моей рукописи – а я подозреваю, что так и будет, – позвоните мне. Я буду к вашим услугам, когда вы захотите.
Джулии Элизабет Вулф
Троубридж Стрит, 21
[Кембридж, штат Массачусетс]
[31 марта 1923]
Дорогая мама:
Мне очень, очень жаль, что я так долго не отвечал на твое письмо, которое ты отправила мне из Спартанбурга, направляясь в Майами. Я отправляю это письмо в Эшвилл, полагая, что к тому времени, как оно дойдет до дома, ты, вероятно, уже вернешься. Надеюсь, деловые операции с недвижимостью во Флориде оказались выгодными. Я не сомневаюсь в твоих больших финансовых способностях; иногда я удивляюсь, почему ты так этому меня и не научила. Думаю, если бы у меня были собственные деньги, которые я хотел бы вложить, я бы предпочел предоставить их тебе, а не заниматься ими самому. Я дважды начинал писать письмо, но так и не закончил. Моя пьеса пройдет здесь 15 мая, и я ужасно тороплюсь. Это самая амбициозная вещь – во всяком случае, по размеру, – которую «Мастерская» когда-либо пыталась ставить: в ней десять сцен, более тридцати человек и семь смен декораций.
Мама, помолись за меня. Профессор Бейкер приглашает Ричарда Херндона, нью-йоркского продюсера, чтобы тот посмотрел спектакль, когда он будет идти. Конечно, это означает не что иное, как то, что он достаточно заинтересован, чтобы приехать и посмотреть ее с целью постановки в Нью-Йорке.
Как я уже говорил, мистер Херндон – человек, который каждый год вручает приз за лучшую пьесу, написанную в «Мастерской». Приз небольшой, 500 долларов, но с ним связан контракт на нью-йоркскую постановку в течение шести месяцев.
Прошлогодняя пьеса-лауреат, комедия под названием «Ты и я», была поставлена в театре Белмонт шесть недель назад и стала хитом. На прошлой неделе Херндон сказал Бейкеру в Нью-Йорке, что пьеса должна идти до жаркой погоды, то есть до сентября или позже. Для автора Филипа Барри это означает более 30 недель, а его гонорар в настоящее время составляет около 700 долларов в неделю. Согласно контракту, права на экранизацию делятся поровну между продюсером и автором: в среднем они составляют около 15 000 долларов, так что молодой Барри – он на три или четыре года старше меня – может сколотить кругленькое состояние. Конечно, я собираюсь выставить на конкурс свою пьесу, над которой сейчас работаю. Бейкер видел первый акт второй пьесы и говорит, что в ней есть «эпический размах». Две пьесы – это максимум, что можно представить на конкурс. Я стараюсь не возлагать на них слишком больших надежд, но не могу отделаться от ощущения, что у меня более чем хорошие шансы.
Я не буду больше говорить о своей пьесе. Я только знаю, что это лучшее, что я когда-либо делал, и что я как художник [страница оборвана]. В этой стране никто не пишет пьес, которые я хочу написать! Я чувствую, как во мне поднимается поток, я не могу, при всем смирении, не чувствовать, что вещь обязательно придет, и придет стремительно, когда настанет время.
Я раб этой пьесы; мои мысли заняты ею днем и ночью. Я обнаружил, что стал подслушивающим, прислушиваюсь к каждому разговору, запоминаю каждое слово, которое слышу от людей, и то, как они его произносят. Я изучаю каждое движение, каждый жест, каждое выражение лица, пытаясь понять, что это значит с драматической точки зрения. Невозможно быть драматическим актером и джентльменом, я давно отказался от этого. Ну, джентльменов много, а драматургов очень мало.
Мама, во имя Господа, храни папины письма, которые он писал мне, всей своей жизнью. Собери их все вместе и следи за ними, как ястреб. Не знаю, зачем я их сохранил, но сейчас я благодарю свои судьбу за то, что сделал это. Таких людей, как папа, никогда не было. Я хочу сказать, что в целом он самый уникальный человек, которого я когда-либо знал. Я убежден, что сегодня в Америке нет никого, похожего на него. Когда я нахожусь на улицах этого города, среди толпы, я пытаюсь проникнуть во «внутренности» каждого, кого вижу, прислушиваюсь ко всему, что слышу, вникаю в их манеру говорить и смотреть, и, знаешь, удивительное дело, насколько похожи, [страница оборвана] обыденны и не [страница оборвана] большинство людей. Учитывая то, что я знаю о них сейчас, я убежден, что если бы я никогда не знал своего отца и если бы однажды на Вашингтон-Стрит в Бостоне я прошел мимо него, в то время как он, разговаривал с кем-то, жестикулируя своими большими руками, обличая демократическую партию, то и дело смачивая языком большой палец, – я бы сказал, если бы я увидел этого человека, полностью поглощенного своим разговором, не видя никого по обе стороны от него, я бы повернулся [страница оборвана] и попытался узнать [страница оборвана] о нем. Так что, ради [страница оборвана], сохрани эти письма и добавь к ним все свои собственные, которые у тебя есть. Отец направляется прямиком не в одну из моих пьес, а в целую серию [пьес]. Он драматизировал свои эмоции в большей степени, чем кто-либо, кого я когда-либо знал, – вспомни его выражение «милосердный Бог», его привычку разговаривать с самим собой с воображаемым слушателем. Храни эти письма. Они написаны в его точном разговорном тоне: мне не придется создавать язык в своем воображении – я верю, что смогу воссоздать персонаж, который своей реальностью будет поражать сердца людей.
Здесь я должен прерваться. Я только что оправился от сильной простуды – второй за эту проклятую, треклятую зиму. Март пришел, как лев; он уходит, как саблезубый тигр. День или два назад были побиты все прошлые и нынешние рекорды погоды на северо-востоке страны за этот сезон, когда температура опустилась до 2°. В Мэне было до -12° (-24° по Цельсию). Сегодня все еще холодно, но гораздо лучше, дует сильный ветер. Я уже почти не болею, если не считать небольшого кашля.
Здоровья, процветания и успеха всем, помогите мне в ваших мыслях.
Ничего не говори о новой пьесе: будет время поговорить, если что-то получится. До постановки осталось шесть недель; они будут самыми напряженными в моей жизни, и, возможно, этим летом я приеду [домой] ненадолго, но – приятный пожилой джентльмен с длинными бакенбардами – до сих пор был добр ко мне.
Еще раз любви и процветания всем вам.
Твой сын,
Том
Джулии Элизабет Вулф
[Кембридж, штат Массачусетс]
Троубридж, 21
31 марта 1923 года, 2 часа дня
P.S. Я занят пересмотром и сокращением моей первой пьесы: той, которая будет поставлена. У сценографов уже есть описания семи декораций. На этой неделе Бейкер объявляет конкурс декораций. Он начнет репетиции 22 апреля, и с тех пор – рабство, рабство, рабство!
Мейбл Вулф Уитон
[Кембридж, Массачусетс]
[апрель или май, 1923?]
Дорогая сестра Мейбл:
Я глубоко сожалею, что так долго не писал тебе, и особенно хочу поблагодарить тебя за прекрасный подарок на Рождество. Я знаю, что сейчас не самое подходящее время для благодарности, но лучше поздно, чем никогда, и я хочу, чтобы ты знала, что я ношу его каждый день и он отлично служит. Я знаю, что ты устала, и понимаю твое положение. Я не думаю, что мы когда-нибудь забудем то, что ты сделала [ее преданность отцу до самой его смерти] – я уверен, что не забуду, и если в этом есть хоть какое-то слабое утешение, возможно, когда-нибудь я напишу пьесу о своей семье [среди бумаг Вулфа есть фрагменты такой пьесы, в ней использованы некоторые материалы, которые в итоге появились в «Взгляни на дом свой, Ангел». В ней мы увидим, что не все мы герои и не все мы злодеи, но что все мы вполне человечные люди, у которых больше достоинств, чем недостатков, и которые способны (ты, в частности) на поступки, заставляющие сердце биться чуть быстрее.
Семья – странная и удивительная вещь, и человек никогда не видит в ней тайну и красоту, пока не побудет в ней. Когда человек присутствует в ней, большие ценности иногда заслоняются мелкими трениями повседневных событий. Например, я иногда задаюсь вопросом, смогут ли два таких разных человека, как мы с Фредом, жить вместе в полной гармонии? Щедрость Фреда и его многочисленные акты доброты по отношению к младшему брату часто вспоминаются с глубоким чувством, но если когда-нибудь мы прожили вместе хотя бы неделю без раздражений, я не могу этого припомнить. Я готов сделать для него все, что в моих силах; он готов сделать для меня то же самое и даже больше, но, по правде говоря, когда мы собираемся вместе, мы склонны раздражать друг друга. Раз или два – помоги нам Бог – мы были на грани ссоры. Это было бы катастрофой…
Мейбл: не думай, что я переоцениваю себя или имею ложное представление о своих способностях. У меня нет никаких иллюзий на этот счет, и ты можешь быть уверена, что если я когда-нибудь сделаю что-нибудь, достойное названия «Гений», я не буду слишком скромным, чтобы признать это. Два или три раза за мою короткую жизнь у меня были вспышки, которые заставляли меня на мгновение думать, что во мне есть искра – очень маленькая – Прометеевского огня, но в настоящее время ты можешь покрыть все это и даже больше, если скажешь: Я верю, что у меня есть талант. Единственная большая надежда, которая у меня сейчас есть, – это то, что профессор Бейкер уверен в моих способностях больше, чем я сам. Это предложение плохо сформулировано. Я имею в виду, что тот факт, что он верит в меня, дает мне надежду. Но если ты когда-нибудь думала, что я склонен к надутому самомнению, прошу тебя пересмотреть это мнение, потому что я знаю, что если бы ты могла быть со мной иногда в этом году, то по доброте душевной не преминула бы сказать мне, что я не так уж плох, как мне кажется.
[на этом письмо обрывается]
Казалось бы, невозможно правильно датировать следующее письмо или предположить, кому оно было адресовано. Однако разложившееся состояние бумаги, на которой оно написано, общий вычурный стиль и обращение «к каждому пьяному второкурснику, к каждому тощему продавцу огурцов» указывают на то, что оно было написано во время учебы Вулфа в Гарварде, вероятно, в 1923 году.
Незнакомой девушке
[Кембридж, Массачусетс?]
[1923?]
Моя дорогая:
Когда я впервые увидел тебя и услышал, как ты говоришь, я полюбил твой голос. Он был низким, хриплым и странно нежным. В нем были маленькие нотки и оттенки. В твоей осанке было что-то непоколебимое и прекрасное; я обратил внимание на твою грудь, когда ты шла, – она была упругой и выдавалась вперед.
Я услышал твою речь во второй раз и попросил другую девушку, Маргарет, позвать тебя для меня. Я подумал о Корделии, дочери короля Лира. Мне кажется, я всегда любил ее. Когда она умерла, старый безумный король [склонился] над ней и сказал: «Ее голос был всегда мягким и низким – превосходная вещь в женщине».
Это, моя дорогая, великая поэзия – простая, чувственная, страстная, пронзительная и прекрасная. И твой голос был таким же, подумал я. Вернее, так думала та причудливая лживая романтическая часть меня – та часть, которая всегда мне лжет. Другая – настоящая, жесткая, практичная часть – говорила: «Сигареты и выпивка».
Но, несмотря ни на что, я встретил тебя. Ты пришла ко мне в комнату и сказала: «Ну, где же спиртное? Ты первый южанин, которого я вижу» – и так далее. Я заболел от ужаса, страха и стыда. Я так часто слышал это раньше и почему-то чувствовал, что потерял тебя. Чтобы завершить это, тебе достаточно было сказать: «Моя компания в обмен на твою выпивку. Договорились?»
Это был удар, оскорбление моего интеллекта, но я не возражал. Я знал, что ты говорила это каждому пьяному второкурснику, каждому тощему продавцу огурцов, которого ты знала, – но я не возражал против классификации. Дело было в том, что я что-то потерял, и я не мог этого вернуть.
Так что я взял выпивку, а ты сидела на кровати со своей жесткой, мудрой, знающей манерой поведения, демонстрируя все позорные и унизительные символы, которыми этот грубый слепой мир пометил тебя – то, что глупые и порочные люди называют «житейской мудростью». Именно тогда я начал любить тебя, моя дорогая. Тебя это удивляет, не правда ли? У тебя прекрасные глаза, и они смотрели на меня время от времени – казалось, с испуганным вопросом. Мне казалось, что я вижу ребенка, которого мир поставил в тупик: вся обычная твердость, грубость и легкомыслие «землекопа» были защитной оболочкой.
А ты тем временем выполняла свою функцию «вечеринки жизни». С внезапным отвращением я подумал, сколько раз ты была этой «вечеринкой». Ты рассказывала свои грязные истории, я – свои. Только ты рассказывал свои красиво. И я не возражал. Я хотел поцеловать тебя. Это было действительно потрясающе. Мне никогда не нравились женщины с грязным ртом, даже если это была уличная проститутка, но в тебе я этого не замечал. Нечистоты капали из твоего рта, как мед.
Странно, но я не испытываю стыда, потому что, думаю, ты будешь нежной и грустной и не станешь хвастаться своим завоеванием. Я предлагаю себя на день, неделю или месяц. Я устану и забуду тебя; ты станешь еще одним прекрасным призраком – и я не попрошу у тебя даже фотографии, подвязки, платка, кусочка надушенного кружева на память. Я никогда не прошу.
Я буду целовать твои губы – твой прекрасный рот, твою прекрасную, испачканную красоту, запятнанную столькими грязными и пьяными поцелуями. Я буду лить золотые песни – то, что мое обезумевшее сердце создало и сделало прекрасным – в те уши, которые слышали все безвкусные баллады в стране от бесчисленных пьяных второкурсников. Только, дорогая моя, когда придет время, ты забудешь мои стихи и вспомнишь грубые баллады.
Жизнь оставила на тебе следы своих грязных пальцев; тебя изрядно потрепали – и все же в этом есть своя жалость и своя прелесть…
[часть письма отсутствует]
…люблю тебя, и – в конце концов – я верну тебя в порочное склизкое море, из которого ты вышла.
Полюби меня на время, моя дорогая. Обними меня и скажи мне:
«Ты прекрасен, ты хорош, ты велик, ты красив. Ты мой бог, и я люблю тебя» – и, ей-богу, так и будет.
Это – X – Поцелуй, моя дорогая.
(Если ты не уничтожишь это письмо, тебя расстреляют на рассвете)
Джулии Элизабет Вулф
Май 1923 года





