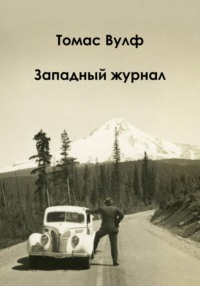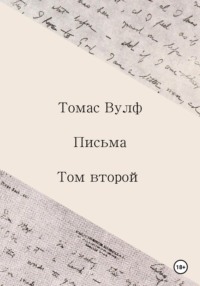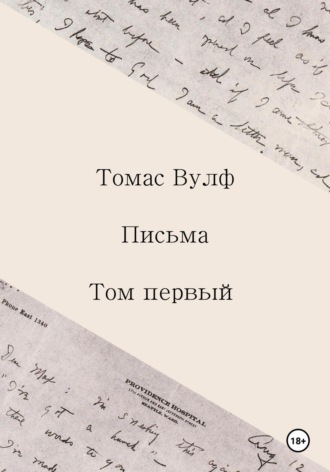
Полная версия
Письма. Том первый
Я написал длинное письмо Фреду и готовлю письмо Мейбл. Прилагаю записку для папы.
С любовью, твой сын,
Том Вулф
P.S. Я здоров, хотя в последнее время немного побаливаю. Позволь еще раз попросить тебя не делать из себя ломовую лошадь и беречь свое здоровье.
Том
P.S. На почте я обнаружил, что забыл вложить (или взять с собой) чеки. Отправлю их позже.
Маргарет Робертс [*]
[Хаммонд-стрит, 67]
[Кембридж, штат Массачусетс]
Воскресный вечер [февраль (?), 1922]
Дорогая миссис Робертс:
Я все еще прокладываю адскую дорогу своими благими намерениями. Однако не отвечать своевременно на письма того, кто не перестает вселять в меня надежду и придавать новые силы, – это не просто дурные манеры, это дурной тон. Если пресса работы и недавно закончившихся экзаменов не может прийти мне на помощь в качестве оправдания, то ничто другое не может.
Вчера секретарь аспирантуры прислал мне записку, в которой сообщал, что «рад сообщить» мне, что я получу степень магистра с отличием, если с меня снимут требование по французскому языку. [Вулф поступил в Гарвард, не имея зачетов по французскому языку, и поэтому был обязан сдать экзамен по французскому А или сдать вступительный экзамен по элементарному французскому с оценкой не ниже С, прежде чем получить степень магистра. Он сдал этот экзамен в июне 1921 года, но получил оценку всего 60. Поэтому он снова сдал его в мае 1922 года и прошел его удовлетворительно]. Я уверен, что его счастье не сравнится с моим. Я получил известие только об одном курсе – но это тот самый курс, который мне нужен. По их щедрости я получил оценку «А», хотя вряд ли осмелился бы так хорошо себя оценить. До сих пор я получил только одну четверку, и это была четверка с плюсом в прошлом году на семинаре. Остальные оценки – пятерки. Когда год закончится, я не только пройду четыре курса, необходимые для получения степени, но и получу зачет еще за два». [Остальные курсы, необходимые для получения степени магистра, он прослушал в 1920-21 годах и в Летней школе]. Всего шесть. Это не считая французского. Мой второй год в Мастерской не засчитывался для получения степени, так как в зачет может идти не более одного курса композиции, и, конечно, 47 последних лет пошли в минус.
Я читаю запоем. Попробую дать представление о моих подвигах, я вообще обожаю подсчитывать количество жертв моей библиомании, хотя, судя по всему, мне так никогда и не стать действительно образованным человеком. Сегодня воскресенье. Вчера вечером взялся за «Негасимый огонь» Уэллса [Вулф восхищался модернизированной сагой об Иове Г. Уэллса «Неугасимый огонь» (1919) и взял за основу «Старую школу», одну из своих ранних пьес, написанных в Гарварде. (Рукопись сохранилась лишь в виде фрагментов)] и сегодня закончил. Уэллс из тех немногих сегодняшних писателей, на которых не жалко тратить время, он очень вдохновляет. Может, Уэллс и не глубок, но в нем есть удивительная основательность. Он безусловно, не из тех, кого Эмерсон называл «первооткрывателями», но его творчество – живое свидетельство пользы широкого и глубокого образования в воспитании первоклассного интеллекта. Но продолжим подсчёты. Днём я отправился на прогулку, а потом прочитал половину Свифтовой «Сказки о бочке». Вечером прочитал два эссе Эмерсона, а до отхода ко сну надеюсь закончить превосходную биографию Александра Поупа, написанную Лесли Стивенсом. [Лесли Кларк Стивенс (1832–1904) – английский писатель, автор биографии «Александр Поуп» (1880)] Похоже я совершаю большую ошибку, пытаясь проглотить все сливы сразу. Такое чтение, вместо того чтобы умиротворять, разожгло во мне вулкан средних размеров. Словно призрак, брожу я между полок здешней библиотеки и не могу утихомирится. Я постоянно отвлекаюсь от того, что читаю, задумываясь о мыслях тех, кого я очень хочу прочитать. Рассказываю вам об этом столь подробно, потому что это может дать вам представление о сражении, разгоревшемся во мне, – непонятно только, между какими силами. Из-за этой войны я не могу спокойно писать. Нет, нет – желание писать не отпускает меня по-прежнему, но в меня вселился какой-то бес, который всё время нашептывает: «Погоди, не сейчас, может, через два, три, четыре года… Тогда ты наберешься сил…» Но это же безумие! Если так будет продолжаться дальше, огромный камень моего невежества обрушится и раздавит меня в лепёшку.
Прозрачная мудрость Эмерсона придаёт мне силы. Сегодня ещё раз перечитал его эссе о книгах.
[Часть письма отсутствует]
…со смертью». Понятно, что имеется в виду: драматургия не умеет правильно передавать высшие мгновения нашей жизни. Но так ли это? Лично я не знаю, какой другой вид искусства превосходил бы здесь драму. Самое интересное в «Лилиом» [Пьеса 1909 года, венгерского драматурга Ференца Мольнра (1878–1952) поставленная в Нью-Йорке в 1921 году] состоит в том, что пьеса эта приобретает дополнительное измерение после того, как главный герой совершает самоубийство. Следующая сцена – небольшой суд над самоубийцами (каким он представляется герою). Но больше ничего рассказывать не буду. В сценах, где герой умирает, много юмора, даже фарса, а в эпизоде на небесах вообще многое от балагана, но почему бы и нет?! Если внимательно присмотреться к человеческому существованию, становится очевидно, насколько это сложная штука. Грубые полицейские в «Лилиом» вытаскиваю умирающего героя на площадь и, пока он стенает в агонии, рассуждают о жаре, ругают комаров, низкое жалование и так далее.
Добавлю ещё один мрачный штрих из собственных воспоминаний. Несколько лет назад умер мой брат [Бен] и мы с Фредом пошли в похоронную контору взглянуть на него. Нас встретил хозяин, сладкоречивый, набожный тип, он пригласил нас пройти в заднюю комнату и предложил немножко подождать – так художник просит подождать друзей, пока он готовит правильное освещение для своего холста. Затем нас пригласили в зал, где мы увидели Бена. Мы стояли, смотрели, а владелец похоронной конторы говорил не закрывая рта. Он гордился своей работой. Он считал что это самый настоящий шедевр, что он затмил всех своих коллег. С упоением художника он стал объяснять нам нюансы, якобы свидетельствовавшие о том, что работал истинный мастер своего дела. Это было уж слишком. Меня вдруг охватил приступ неудержимого смеха. Разумеется, это была нервная реакция, но ничего не мог с собой поделать, да и теперь, вспоминая этот эпизод, не могу сдержать улыбки.
Именно поэтому я всегда защищаю от нападок сэра Джеймса Барри. По-моему, на сегодня это наиболее значительный представитель англоязычной драмы, и прежде всего потому, что он продолжает великие традиции классиков. Но здесь это звучит ересью, ибо кое-кто из моих молодых и весьма критически настроенных друзей считает его сентиментальным. Какая ерунда! Не любопытно ли, что академическая критика испуганно отворачивается от произведений, вызывающих непосредственный эмоциональный отклик? Когда бы я ни читал Барри [речь идёт об английском драматурге Джеймсе Барри (1860–1937), автора пьесы «Питер Пен» (1904)], его пьесы всегда рождают у меня «это смешанное чувство». Он не пытается ничего доказать (и слава богу), но, как Шекспир и другие «старики», он интересуется людьми, а не проблемами организации труда. Именно поэтому я не сомневаюсь, что его пьесы переживут творения многих его коллег, во все времена люди умели понимать и ценить переживания других людей. Скептикам я рекомендую перечитать «Троянок» [трагедия Еврипида, 415 год до н.э.]. Вот что такое вечное, общечеловеческое начало в драме. Условия жизни, о которых Голсуорси писал в «Схватке», уже меняются и через двадцать лет у нас будут проблемы в связи с организацией труда, но они станут разительно отличаться от тех, что вызвали к жизни пьесу Голсуорси.
В годы своего наивысшего расцвета Бернард Шоу тратил свой талант сатирика на единственный, на его взгляд, заслуживающий усилий род драмы дидактический. Но затем разразилась война, вызвавшая крушение великих держав и унесшая двадцать миллионов жизней, и как-то трудно становится убедить себя в том, что «Профессия миссис Уоррен» или «Дома вдовца» повествуют о самом важном и значительном в мире. Будь я на месте Шоу, я бы испытывал горькое ощущение, что всю жизнь стрелял из пушки по воробьям.
Полностью согласен с Вами насчет Юджина О’Нила. Это путеводная звезда нашей нынешней драматургии. Он сумел со хранить веру в свои идеалы, и теперь благодаря этому преуспевает, что только справедливо. Скоро в Нью-Йорке ожидаются премьеры двух его новых пьес. «Анна Кристи» пользуется у зрителей большим успехом. Недавно я смотрел «За горизонтом» превосходная пьеса. О’Нил еще молод ему, кажется, лет тридцать пять. Думаю, что его лучшие вещи пока не написаны. Надеюсь, они не за горами. Но кое-что в нем меня настораживает. В анонсе его новой пьесы «Косматая обезьяна» (она скоро будет поставлена) я прочитал, что ее главный герой кочегар на океанском лайнере, который постепенно превращается в первобытного человека. Боюсь, как бы эта тенденция не стала у О’Нила преобладающей. Ведь и в «Императоре Джонсе» он все время «оглядывался», да и в других пьесах подобный подход тоже время от времени дает о себе знать. Но в таком случае трагедия превращается в нечто мрачно-отталкивающее. Неужели таково мироощущение О’Нила? Я убежден, что подлинное трагическое искусство всегда смотрит вперед.
[Часть письма отсутствует]
Дж. Стюарт Милль, [Джон Стюарт Милль (1806-1873), английский философ и экономист; его «Автобиография» была опубликована в 1873 году] автобиографию которого я на днях читал, сказал, что величайший урок, воспринятый им от греков, состоит в том, чтобы расчленять суждение (как это делал Сократ) и находить его уязвимое место. Если когда-либо мы нуждались в этом подходе, то именно сейчас! Вокруг столько трескучей болтовни, столько изящных фраз, за которыми ничего нет, что Мы должны весь наш здравый смысл и проницательность направить на то, чтобы камня на камне не оставить от разглагольствований этих паяцев. Господи, как жаль, что нет Свифта, вот уж кто показал бы этим верлибристам!
Ну, мне действительно пора идти. Надеюсь, мистер Робертс чувствует себя хорошо. Передайте ему мои самые добрые пожелания мистеру Робертсу, когда будете писать ему в Дарем.
С большой любовью
Том
Ваша критика последней сцены в моей пьесе [Горы] была безошибочно точной. Я сократил речь Мэга. Первые два акта пьесы я написал как три акта (также пролог).
Хорасу Уильямсу [*]
Хеммонд-стрит, 67
Кембридж, Массачусетс
Февраль (?) 1922 года
Дорогой мистер Уильямс!
[…] В этом первом семестре я очень много работал и, как мне кажется, кое-чего достиг, хотя достижения эти внутреннего, невидимого со стороны свойства. В связи с этим мне вспоминается случай на аэродроме Ленгли в Виргинии три или четыре года назад. Несколько бригад негров вырубали и расчищали уча сток, чтобы там могли приземляться летательные аппараты. При корчевании пней образовались ямы, а поскольку рядом был водоем, они все время наполнялись водой. В обязанности негров входило засыпать эти ямы землей. Это было унылое занятие. Я сам наблюдал, как целый день бригада забрасывала ямы, а на утро выяснилось, что все труды их пошли насмарку – вода растворяла грунт, словно сахар. Стремление заполнить голову знаниями очень смахивает на работу той бригады и если чем и отличается, то еще большей безнадежностью.
У меня есть одна общая черта с Генри Адамсом. [Автобиографическое сочинение «Воспитание Генри Адамса» (1908) американского историка, прозаика и мемуариста Генри Брукса Адамса (1838–1918) стало для последующих поколений американских писателей образцом автобиографической прозы.] Я не чувствую себя дома в своей тарелке и не могу найти свой дом в другом месте. Quanta patimus pro amore virtutis. [Сколько мы терпим из любви к добродетели.] Я решил посвятить себя драматургии, если, конечно, не окажусь совсем бездарным. Поэтому о возвращении домой сейчас нечего и говорить. Я должен жить там, где можно читать пьесы, смотреть пьесы и изучать пьесы. Без этого мне не обойтись, раз уж я хочу стать художником. В Чапел-Хилле можно стать философом, но драматургом вряд ли! Условности выбранного мною вида искусства диктуют мне образ существования.
Философия по-прежнему волнует мое воображение. На днях Я прочитал о том, как звезды блуждают по вселенной и что луч света от звезды, путешествуя со скоростью 186 тысяч миль в секунду, достигает нашей планеты лишь через 40 тысяч лет. От этого просто голова кругом идет! Философы вознамерились сделать человека центром вселенной и ее главным героем – пожалуй, и в самом деле лучше смотреть на вещи именно так. Другой подход ведет к безумию. И тем не менее кто может сказать, что жизнь проявляется только таким способом? Разве можем мы с уверенностью утверждать, что лишь человек – избранный сосуд этого эксперимента?
Мне бы хотелось, чтобы «негасимый огонь» человеческого прогресса сиял на протяжении всей мировой истории, но у меня на этот счет немало сомнений. Мне как-то не очень верится, что Христианство это продолжение древнегреческой философии и что древнеиудейская идея отмщения получает вторую жизнь в христианской теории милосердия. Находятся ли философия, религия и искусство в состоянии вечного роста или, достигнув определенного момента, они начинают умирать? Почему Греция не стала сильнее и лучше после Перикла, Сократа, Платона? Почему к христианству мы относимся как к далекой истории, к тому, что имело место – и завершилось две тысячи лет назад и с тех пор толкуется вкривь и вкось всеми, кому не лень.
Ну и, конечно же, литература: после ровного, без взлетов периода развития она дает миру Шекспира, но почему те, кто приходят ему на смену, не могут его превзойти? Почему после елизаветинской драмы наступает упадок театр Реставрации? [английский театр 1660–1688 годов] Это что, прогресс? И если да, то почему в нем столько противоречий?
Почти все мы тратим жизнь на ложные цели: сколько поразительной энергии расходуется зря. Порой кажется, что еще немного и человечество достигнет Абсолюта, сумеет разгадать конечную, непостижимую тайну бытия, но потом оно вдруг отступает, обращает свои усилия на что-то другое и опять остается в дураках. Лично я, мистер Уильямс, фанатично верю в то, что если бы лучшие, мудрейшие, достойнейшие из нас смогли бы сосредоточиться на чем-то одном, то, работая сообща, смогли бы отринуть все ложное и пустое и кое-чего добились бы. Может, это мечта безумца, но я был бы только рад забыть о своем «я» и раствориться в таком содружестве. Сначала мы обратились бы к религии, потом взялись бы за искусство, философию, науку. Многоглазые, словно Аргус, [Аргус – в греческой мифологии многоглазый великан; в переносном смысле – бдительный страж] мы загнали бы их в угол, от нашего пристального взора они бы никуда не делись, и если бы и тогда Господь Бог сумел бы избежать встречи с нами, то я крепко уверовал бы в чудеса, больше вопросов не задавал и до конца дней своих только и знал бы, что ел, пил и спал.
Кажется, это Уильям Джеймс сказал, что люди знают о вселенной столько же, сколько кошка или собака, забежавшая в библиотеку, знает о содержании хранящихся в ней книг. И все же никаким логическим доводам не убедить меня, что такое вмешательство неизбежно, что с этим ничего нельзя поделать. Неужели невежество благо? Нас учат, что знание раскрепощает, способствует духовному росту. Неужели ясное понимание высшей цели и смысла нашего существования может нам как-то повредить, неужели попытки понять это заслуживают лишь насмешек, неужели какая-то невидимая рука снова и снова уводит нас от разгадки? По-моему, подобная теория просто пагубна.
Философия, мне кажется, по самой своей природе имеет характер умозрительный, ищущий. Она все время в движении, в поиске. Покажите мне человека, который убежден, что раз и навсегда разрешил загадку своего бытия, создав философскую систему, и я скажу вам, что он оказался ею порабощен. Что толку в доктрине, которая утверждает, что есть вещи, недоступные нашему пониманию, и единственное, что нам остается, – наблюдать факты, не выходя из границ непосредственного опыта, и основываться только на этих фактах. Многие из нас, проплутав всю жизнь по лабиринтам, вдруг восклицают: «Вот оно!», а потом торжественно оповещают белый свет, что выход в том, чтобы читать хорошие книги, культивировать чувство прекрасного и, ловя мгновения, наслаждаться мимолетными годами. Они могли бы не утруждаться: все это мы проходили в школе.
Что меня страшно раздражает в нашем цивилизованном обществе, так это постоянный упор на то, что именуют «культурой», благодаря которой мы якобы имеем возможность погрузиться в то божественное состояние, что вызывает у нас «чувство прекрасного». Но если все, что может дать нам эта «культура», заключается в способности ценить красоту, то я прекрасно без нее обойдусь. Нам надо учиться различать не только прекрасное, но и безобразное, ибо в окружающей жизни, мистер Уильямс, немало безобразного, и мы не должны закрывать на это глаза. Что толку в культуре, которая учит распознавать кисть великого художника, но трусливо бежит грязной, безобразной, потной толпы, зачем нам культура, которая приходит в восторг от стихов Сафо и в ужас от грубого голоса кондуктора подземки, готового облаять и каменщика, и профессора: «А ну-ка пошевеливайтесь, вы что, заснули?»
В этом вся загвоздка. Нетрудно сродниться с миром божественных сущностей, наслаждаясь творениями высокого искусства, но нам постоянно приходится отыскивать красоту в том, что по крайней мере на первый взгляд выглядит безобразным.
Я читаю стихотворение Уолта Уитмена о благородстве и высоком достоинстве физического труда, о всемирном братстве, [мотив всемирного «товарищества» людей труда, людей творчества – лейтмотив «Листьев травы»] и мне хочется вслед за поэтом любовно трепать по плечу ремесленников и называть их «камарадо». Я выхожу на улицу, готовый стиснуть в объятиях все человечество, и вдруг кондуктор или продавец несколькими неуместными замечаниями заставляют забыть меня об этом желании мне хочется уже хорошенько врезать хаму по челюсти. Вот вам и всемирное братство!
Надеюсь, Ваша книга подвигается. Рассчитываю получить от Вас экземпляр. Надеюсь также, что расписание занятий позволяет Вам выкраивать на работу над книгой то драгоценное время, которого всегда так не хватает, и что студенты не осаждают Ваш дом по вечерам. Пожалуйста, напишите, когда выдастся такая возможность.
Эдвину Гринлоу
[67 Хэммонд-стрит]
[Кембридж, Массачусетс]
[март (?), 1922]
Дорогой профессор Гринлоу:
Пишу Вам без дерзости, не ожидая ответа, поскольку знаю, вы всё время заняты. Мне жаль, что вы не приедете сюда в этом весеннем семестре. Кто-то сказал мне, что вы собираетесь в Чикагский университет.
Я получу степень магистра, как только сниму проклятое требование по французскому языку. Я подал заявление на работу преподавателем, но какое-то время не собираюсь возвращаться на юг. Я чувствую необходимость быть там, где я могу смотреть театр, видеть, что происходит, а вы знаете, какие условия у нас дома. Мы должны что-то сделать, чтобы исправить это. Мне все больше и больше кажется, что наши южане гораздо лучше приспособлены к восприятию прекрасного, чем эти застенчивые, неуклюжие янки, но, похоже, это снова случай зайца и черепахи.
Пишутся хорошие пьесы. Я видел «Лилиом» три раза, помня о предписании М. Арнольда «смотреть хорошие вещи два-три раза». Так что я эпикуреец.
Пройдет немного времени, и в Америке появится драма. Если у нас есть три или четыре человека калибра Юджина О’Нила, каждый из которых способен на разные формы, то век нашей драма уже наступил. Я чувствую себя не так, будто иду к солнцу, а так, будто могу почти дотронуться до него. Скоро это обязательно произойдет.
Англичане становятся хрупкими. Их маленькие светские пьесы и комедии нравов жесткие и блестящие. Они оставляют неприятный привкус…
Война, похоже, разрушила основы наших старых убеждений. И нам пока не к чему привязываться. Нам нужно построить что-то новое, что-то, что мы сможем увидеть и почти что выдержать. Если я когда-нибудь стану драматургом, я должен верить в борьбу. Я должен верить в дуализм, в определенный дух зла и в Сатану, который устал от хождения по Земле. Это вещи, которые я могу представить. Когда мы стираем борьбу, наша способность к визуализации, кажется, исчезает. Мне очень трудно вызвать в своем воображении картину профессора Уильямса, поглощающего отрицание. (Конфиденциально)
Вы помните историю или легенду о том, как средневековые монахи с помощью самой интенсивности своих размышлений могли вывести на лбу и руках крестное знамение, раны от гвоздей распятия. Я глубоко чувствую необходимость таких символов, к которым можно привязаться. Это не просто ветреная болтовня со мной. Я начинаю понимать, чем хочу заниматься сейчас. И это требует понимания фактов жизни. Когда я посещал лекции по философии (а я оцениваю эти лекции очень высоко), мне говорили, что в тележке нет реальности, что реальность заключается в концепции или плане этой тележки. Но тележка – это то, что вы показываете на сцене, и я так далек от того, чтобы отрицать реальность этого факта, что должен признать, когда мы пинаем камень, он ушибает нам пальцы ног.
Книга профессора Лоуса о Кольридже [«Дорога в Занаду» Джона Ливингстона Лоуза. Вулф прослушал курс профессора Лоуса «Изучение поэтов романтического периода» в 1920-1921 годах и сдавал экзамен по сравнительной литературе в 1921-1922 годах.] (по-моему, еще не опубликованная), которую он читал классу в прошлом году, оказала на меня большое влияние. В этой книге он убедительно показывает, насколько разум запоминает все, что читает, и как почти в любой момент эта масса материала может сплавиться и воскреснуть в новых, волшебных формах. Это замечательно, я думаю. Так что я читаю, не столько аналитически, сколько с жадностью.
[на этом письмо обрывается].
Следующее письмо профессору Бейкеру, сообщающее о намерении Вулфа отказаться от участия в «47-ой Студии», возможно, никогда не было отправлено, поскольку оно было найдено в бумагах самого Вулфа и не обнаружено в письмах Бейкера. Вулф подал заявление на должность преподавателя в Гарвардское бюро 24 марта 1922 года, но его сердце по-прежнему было настроено писать для театра, и он закончил трехактную версию «Горы» и представил ее Бейкеру в апреле или мае.
Джорджу Пьерсу Бейкеру
[Кембридж, Массачусетс]
[март (?) 1922 года]
Дорогой профессор Бейкер:
Пишу вам, чтобы уведомить вас о своем уходе с вашего курса. Получив от университета определенную гарантию преподавательской работы где-нибудь в следующем году и заручившись согласием моей семьи продолжить год обучения здесь для получения степени магистра, я доучусь до конца семестра.
У меня появилось убеждение, что я никогда не смогу выразить себя в драматургии. Поэтому я прекращаю мучения кратчайшим путем; я не буду глупым бродягой, обещающим себе великие богатства
Я не могу найти слов, чтобы выразить благодарность, которую я испытываю к вам, не только за вашу доброту и поддержку, но и за ту неоценимую пользу, которую, как я знаю, я получил от вашего курса. Я никогда не забуду и не перестану быть вам благодарным.
Письмо, которое приводится ниже, очевидно, было отправлено профессору Бейкеру вместе с новой трехактной версией «Горы».
Джорджу Пьерсу Бейкеру
[Кембридж, Массачусетс]
[апрель или май, 1922]
Профессор Бейкер:
Когда человек пишет пьесу, ему кажется, что существует тысяча способов сказать что-то, и обычно он выбирает худший. Но когда переписываешь пьесу, оказывается, что сформировалась очень определенная форма, которую трудно сломать. Я считаю, что в последнем акте я сломал эту форму – к добру или к худу, я не смею сказать. Ни разу в процессе переписывания я не ссылался на первоначальный одноактный текст.
Внесение элемента романтики, надеюсь, не удешевит вещь. Я сделал это не для того, чтобы популяризировать пьесу, а для того, чтобы сделать более живой фигуру девушки Лоры, которая до этого была несколько деревянной. Мне скажут, что любовная связь с представителем враждебного клана – это несколько условный прием, но все сюжеты несколько условны, и я не вижу причин, почему этот прием не хорош, если я сделал из Уилла Гаджера настоящего и честного любовника и более человечную фигуру девушки Лоры, «разрывающейся между» (как говорится) любовью к своему избитому отцу и грубым молодым яблочником. Таким образом, мне также кажется, что в конце мне удается нанести то, что вы бы назвали «разящим ударом»…
[фрагмент обрывается].
Через Бюро Гарвардского университета Вулфу предложили место преподавателя на кафедре английского языка в Северо-Западном университете, но он с явной неохотой отложил это предложение. Он ждал окончания университета, и должен был получить степень магистра, когда его внезапно вызвали домой к смертному одру отца. Следующую открытку он отправил мисс Маккради, заведующей Офисом Бюро, из Нью-Йорка по пути в Эшвилл.