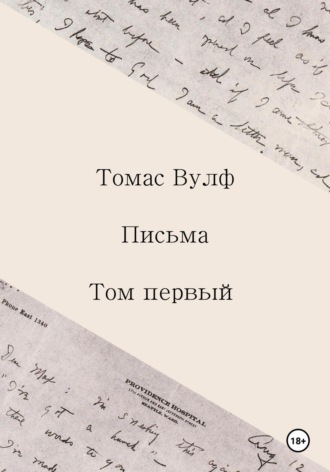
Полная версия
Письма. Том первый
Дорогая мама:
Прости, что так долго не писал тебе, но вот уже три месяца я занят своей пьесой [Пьеса под названием «Добро пожаловать в наш город», которая едва не провалилась в Нью-Йорке после успешного показа в Гарвардском театре «47-ой Студии»] и ее последствиями. На прошлой неделе я ездил в Нью-Гемпшир с профессором Бейкером после спектакля. Мы хорошо провели время в его доме на Серебряном озере, и я получил день отдыха. Он хочет, чтобы я поехал туда 1 июня и закончил писать свою новую пьесу, но я думаю, что пробуду здесь до 15 июня, так как мне нужна библиотека. Профессор Бейкер хочет, чтобы я отправил свою пьесу в Гильдию театральных деятелей Нью-Йорка.
Он сказал, что, по его мнению, у нее гораздо больше шансов на успех, чем у «Счётной машины» – такой же пьесы, которая вышла в Нью-Йорке на прошлой неделе после трехмесячного прогона. [«Счётная машина» – пьеса Элмера Райса] Конечно, если бы мне удалось продержаться всего три месяца, я бы заработал от восьми до десяти тысяч долларов и был бы на ногах. Если бы я мог это сделать, то осенью отправился бы в Германию, где я мог бы жить на четверть тех денег, которые нужны для жизни в нашей стране.
На днях я встретил человека, который жил в прошлом году в Мюнхене и купил там дом за 50 долларов. Он жил на паях с землей, имел двухкомнатную квартиру, за которую платил 1 доллар в месяц, и, хотя жил по-княжески, тратил всего 7 долларов 50 центов в неделю.
Конечно, немецкая марка разлетелась на куски – сейчас за доллар дают более 50 000.
Это ужасно для немцев – бедные люди, но удача для нас. Сегодня утром я разговаривал с профессором Лангфельдом с факультета психологии, который собирается приехать в Берлин этим летом, там он живёт уже семь лет. Он очень любит немцев, считает, что они во всех отношениях превосходят французов и являются расой, которую невозможно подавить. Ужасные вещи войны он называет пруссачеством – делом рук нескольких автократов, но люди добры, умны, артистичны и дружелюбны – великая раса.
Конечно, некоторые из самых интересных вещей в театре делаются в Германии – там, где наши рабочие и средний класс собираются посмотреть, как Билл Харт застрелит 17 плохих мужчин, или как Чарли Чаплин бросит пирог с заварным кремом, или как Норма Талмадж сыграет в «Страстях», немцы, у которых не хватает денег на еду, копят свои гроши, чтобы увидеть «Фауста» или оперы Вагнера. Если я продам хоть одну из своих пьес, я уеду туда. Профессор Бейкер сегодня в Нью-Йорке. Он собирается обратиться в Театральную гильдию от моего имени. Он прекрасный друг и верит в меня. Теперь я это знаю: я неизбежен. Я искренне верю, что единственное, что может остановить меня сейчас, – это безумие, болезнь или смерть. Пьесы, которые я собираюсь написать, возможно, не подойдут для нежных животиков старых служанок, милых молодых девушек или баптистских священников, но они будут правдивыми, честными и мужественными, а остальное не имеет значения. Если моя пьеса будет принята, будь готова к тому, что на мою голову посыплются проклятия. Я наступаю на пятки направо и налево – я пощадил Бостон с его черномазыми сентименталистами не больше, чем Юг, который я люблю, но который я, тем не менее, ругаю. Мне неинтересно писать то, что наши пузатые члены «Ротари» и «Кивани» называют «хорошим шоу», – я хочу знать жизнь, понимать ее и интерпретировать без страха и оглядки. Это, как мне кажется, мужская работа, достойная мужчины. Ведь жизнь не состоит из приторной, липкой, тошнотворной сентиментальности Эдгара А. Геста, [Эдгар Альберт Гест (1881–1959) – американский поэт британского происхождения, который стал известен как народный поэт. В его стихах часто был вдохновенный и оптимистичный взгляд на повседневную жизнь] она не состоит из бесчестного оптимизма, Бог не всегда находится в своем раю, в мире не всегда все хорошо. Не все плохо, но и не все хорошо, не все уродливо, но и не все красиво, это жизнь, жизнь, жизнь – единственное, что имеет значение. Это дикость, жестокость, доброта, благородство, страсть, эгоизм, великодушие, глупость, уродство, красота, боль, радость, – все это и даже больше, и все это я хочу узнать и, ей-богу, узнаю, хотя меня за это распнут. Я пойду на край земли, чтобы найти ее, чтобы понять ее, я буду знать эту страну, когда закончу, как свою ладонь, и я изложу ее на бумаге, и сделаю ее правдивой и прекрасной.
Я буду наступать на пятки, я без колебаний скажу, что я думаю о тех людях, которые кричат «Прогресс, прогресс, прогресс» – когда они имеют в виду больше автомобилей «Форд», больше клубов «Ротари», больше баптистских дамских социальных союзов. Я скажу, что «Большой Эшвилл» не обязательно означает «100 000 жителей к 1930 году», что мы не обязательно в четыре раза цивилизованнее наших дедов, потому что мы в четыре раза быстрее ездим на автомобилях, потому что наши здания в четыре раза выше. Я постараюсь вбить в их маленькие запылившиеся умы, что сытый живот, хороший автомобиль, асфальтированные улицы и прочее не делают их ни на йоту лучше или прекраснее, – что в этом мире есть красота, красота даже в этой пустыне уродства и провинциальности, которой в настоящее время является наша страна, красота и дух, которые сделают нас людьми, а не дешевыми рекламщиками и крикливыми памфлетистами из торгового совета. Я постараюсь внушить их крошечному разуму, что не нужно быть «высокоумным», «странным» или «непрактичным», чтобы знать эти вещи, любить их и понимать, что они – наше общее наследие, которым мы все можем обладать и сделать частью себя. Во имя Бога, давайте научимся быть людьми, а не обезьянами.
Когда я говорю о красоте, я не имею в виду киношный крупный план, где Сьюзи и Джонни встречаются в конце и целуются, а все дамы, жующие жвачку, уходят домой, думая, что муж не такой хороший любовник, как Валентино. [Рудольф Валентино (1895–1926)] Это дешево и вульгарно. Я имею в виду все прекрасное, благородное и истинное. Оно не обязательно должно быть сладким, оно может быть горьким, оно не должно быть радостным, оно может быть грустным.
Когда приходит весна, я думаю о прохладном, узком заднем дворе в Северной Каролине с зеленой, влажной землей и цветущими вишневыми деревьями. Я думаю о маленьком худеньком мальчике на вершине одного из этих деревьев, с благоухающими цветами вокруг него, который смотрит на мир задних дворов и строит свои замки в Испании. Это красота, это романтика. Я думаю о старике [имеется в виду отец Тома, о болезни и смерти которого рассказывается в романе «О времени и о реке»], охваченном страшной болезнью, который думал, что боится умереть, но умер, как воин в эпической поэме. Это и есть красота. Я думаю о мальчике [имеется в виду брат Тома – Бен, чья смерть от пневмонии описана в романе «Взгляни на дом свой, Ангел»] двадцати шести лет, который вырывает свою жизнь и задыхается, пытаясь ее вернуть, я думаю об испуганном взгляде в его глазах и о том, как он хватает меня за руки и кричит «Зачем ты пришел домой?» Я думаю о лжи, которая дрожит у меня в горле. Я думаю о женщине, которая сидит с белым, словно высеченным из мрамора, лицом, и пальцы которой не могут разжать его руку. И восемнадцатилетний мальчик впервые видит и узнает, что умирает не просто сын, что хоронят часть матери – жизнь в смерти, что отнимают то, что она выхаживала и любила, то, что было в ее крови, в ее жизни. Это ужасно, но это прекрасно. Я думаю о преданности хрупкой женщины отцу, думаю о лугах с маргаритками по дороге на Крагги-Маунтин, о березовых лесах Нью-Гемпшира, о реке Миссисипи в Мемфисе – обо всем этом, в чем я принимал участие, и знаю, что нет ничего такого обыденного, такого скучного, что не было бы тронуто благородством и достоинством. Я намерен выплеснуть свою душу на бумагу и выразить все это. Вот что значит для меня моя жизнь. Я во власти этой вещи, и я сделаю ее или умру. Я никогда не забываю; я никогда не забывал. Я пытаюсь осознать всю свою жизнь с тех пор, как младенец в корзинке осознал теплый солнечный свет на крыльце и увидел, как его сестра поднимается по холму в школу для девочек (первое, что я помню). Постепенно из мира младенческой темноты все приобретает очертания, большие страшные лица становятся знакомыми, – я узнаю отца по щетинистым усам. Затем книги о животных и стихи «Матушки Гусыни», которые я заучиваю еще до того, как научился читать, и каждый вечер декламирую на радость восхищенным соседям, держа книгу вверх ногами. Я начинаю осознавать себя Санта-Клаусом и посылать каракули в дымоход. Затем Сент-Луис. [Из-за открытия Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году миссис Вулф забрала туда всех своих детей и открыла на пересечении улиц Фэрмаунт и Академия дом для постояльцев под названием «Каролина Хаус»] Лестница на станции железной дороги Цинциннати – по ней надо подняться, – Всемирная ярмарка, колесо обозрения, Гровер в гостинице «Инсайд», сады Делмара, где мне дали попробовать пиво, которое я выплюнул, поездка на экскурсионном автобусе по территории ярмарки с Эффи – дождь, дождь, дождь – водопады дождя – поездка по живописной железной дороге – испуг от темноты и отвратительных лиц – поедание персика на заднем дворе – я проглотил муху и заболел, а один из моих братьев смеялся надо мной. Два маленьких мальчика, которые катаются на трехколесных велосипедах вверх и вниз по улице – они одеты в белое и выглядят одинаково – их отец ранен или убит при аварии лифта (не так ли?) – я «совершаю хулиганство» сходив в туалет на узкой ступеньке у бокового двора, полицейский видит меня и доносит тебе – запах чая в Ост-Индском доме – я никогда этого не забуду – Гровер [Гровер, близнец Бена, заболел тифом и умер 16 ноября 1904 года, события этого лета описаны в книге «Взгляни на дом свой, Ангел» а смерть Гровера легла в основу рассказа «Потерянный мальчик», опубликованного в книге «Там, за холмами» в 1941 году], болезнь и смерть… В полночь меня будит Мейбл и говорит: «Гровер на холодной плите». Я не знаю, что такое «холодная плита», но мне любопытно посмотреть. Я не знаю, что такое смерть, но у меня смутное, испуганное ощущение, что случилось что-то ужасное… Потом она берет меня на руки и несет в холл… Разочарование в холодильной камере – это всего лишь стол, коричневая родинка на шее, поездка домой, посетители в гостиной с соболезнованиями… Нора Израэль [соседка и мать одного из друзей детства Тома] была там… Потом все становится довольно ясно, и я могу проследить все шаг за шагом.
Вот почему я думаю, что стану художником. То, что действительно имело значение, проникало в душу и оставляло свой след. Иногда это всего лишь слово, иногда необычная улыбка, иногда смерть, иногда запах одуванчиков весной, а иногда – любовь. У большинства людей ума не больше, чем у грубиянов: они живут изо дня в день. Я побываю везде и увижу все. Я встречу всех людей, которых смогу. Я буду обо всем, испытывать все эмоции, на которые способен, и писать, писать, писать.
Я не буду говорить, хороша или плоха моя пьеса. Некоторые люди в тихой аудитории «47-ой Студии» были шокированы, большинство – воодушевлены, и многие сказали, что это лучшая пьеса, написанная здесь. Хорошо это или плохо, победа или поражение.
[письмо обрывается на этом месте]
Джулии Элизабет Вулф
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
9 июня 1923 года
Дорогая мама:
Пишу тебе в спешке из Плезантвилля, штат Нью-Йорк, в 25 милях от Сити (Нью-Йорка). Я нахожусь здесь с Джорджем Уоллесом, аспирантом Гарварда, который привез меня сюда вчера из Бостона. В среду у меня был единственный экзамен, смертельно устав от него и спектакля, я принял его приглашение. Мы остановились в доме друга Джорджа, Хэла Дабла, здесь, в Плезантвилле, в прекрасном округе Вестчестер. Джордж купил здесь дом: он намерен жить здесь и писать. Он женат, у него два сына. Дабл, управляющий рекламным агентством в Нью-Йорке, женат, у него трое прекрасных детей. Моя поездка обойдется мне недорого – в общей сложности я пробуду здесь три дня. Затем мы вернемся в Кембридж, где я пишу вторую пьесу и дорабатываю первую. Прилагаю без лишних комментариев письмо от Нью-Йоркской театральной гильдии. Они – величайшие продюсеры пьес в Америке, если моя пьеса будет поставлена, я предпочту, чтобы это сделали они, а не кто-либо другой. Прежде чем отправить ее им, я должен сократить ее до обычных двух с половиной часов. Пожалуйста, никому ничего не говори об этом. Это означает лишь то, что пьеса была им рекомендована, и они заинтересовались ею. Если я не продам эту [пьесу], то продам ту, над которой работаю сейчас.
Однако Бейкер считает, что я продам ее. Он говорит, что это лучшая пьеса, чем та, которую они ставили раньше, и она должна иметь больший успех у публики. Последней их пьесой была «Счётная машина». Сейчас они ставят «Ученика дьявола» Бернарда Шоу.
Профессор Бейкер считает, если бы я сменил свое имя на немецкое или русское, Гильдия взяла бы пьесу моментально. Большинство их пьес приходят из Европы. Пожалуйста, надейся и молись за меня. В моем саквояже лежит письмо на двадцати страницах, которое я написал тебе перед отъездом из Кембриджа в пылу волнения и энтузиазма. Я не буду его отправлять: это письмо более спокойное и сдержанное. Однако я знаю следующее – никто в этой стране не пишет пьес, подобных моей. Хорошие они или плохие, но они мои. Пьеса, о которой идет речь в письме, может иметь успех, а может и не иметь, но это единственная честная, искренняя пьеса, которая когда-либо была написана о Юге. Я знаю, потому что читал все остальные.
После возвращения я буду работать в Кембридже до конца этого месяца. Затем я попытаюсь продать две свои пьесы в Нью-Йорке, отправив первую в Гильдию, как и просили. Пожалуйста, ничего не говори, но надейся, что я все же прорвусь. Я думаю, что это неизбежно. Я верю, что теперь меня ничто не остановит, кроме безумия, болезни или смерти. Это человеческие риски. Я нахожусь в полном расцвете сил, и талант внутри меня растет, не поддаваясь контролю. Я еще не знаю, на что я способен, но, клянусь Богом, я гений, и я все равно заставлю крыс и паразитов, которые ждут доказательств, принять этот неизбежный факт. Что ж, они его получат, и пусть они им подавятся.
Пусть кто угодно называет это тщеславием: я сделаю это или умру. Все остальное для меня сейчас не имеет значения; мир – моя устрица, я открою и познаю его целиком.
Я устал и перетрудился, но эта поездка привела меня в порядок. Сохрани это письмо для себя: в нем содержится то, что касается тебя и меня в первую очередь, дай мне возможность получить от тебя весточку, когда ты будешь в состоянии написать.
Если я продам свою пьесу, то поеду в Германию и на континент на десять месяцев. Когда я вернусь, я буду тренировать свои большие пушки. Со всей моей любовью и привязанностью, я
Твой верный сын,
Том
Джулии Элизабет Вулф
[Плезантвиль, штат Нью-Йорк]
[Из открытки, вложенной в письмо]
Я написал это письмо вчера вечером в Плезантвилле и, боюсь, был немного вдохновлен домашним вином Хэла Дабла. Однако я перечитал его и думаю, что в целом оно останется в силе. Я серьезно отношусь к пьесам. Одна из них, я чувствую, я знаю, будет продана. Посылаю тебе это письмо из Нью-Йорка. Я приехал сегодня утром и провел весь день в музее Метрополитен. Он великолепен, чудесен, прекрасен. Три дня обошлись мне менее чем в восемь долларов, включая еду, и это в Кембридже. Так что это была неплохая поездка. Через неделю после спектакля Бейкер пригласил меня на один день в Нью-Гемпшир. За исключением этого, я весь год оставался в Кембридже. Сегодня вечером я возвращаюсь в Плезантвиль с Джорджем. Завтра – воскресенье мы проведем там, а в понедельник поедем обратно в Бостон. Посылаю это письмо специальной почтой, чтобы оно дошло быстрее.
Люблю вас всех,
Том
Приведенное ниже письмо было найдено в бумагах самого Вулфа и, очевидно, адресовано Мерлину Макф. Тейлору, который был аспирантом в Гарварде с 1921 по 1923 год и членом «Английского 47» в 1921-1922 годах. Последние два абзаца письма написаны на отдельном листе бумаги и могут быть частью письма Тейлору или частью письма кому-то другому.
Возможно, Мерлину Макф. Тейлору
[Кембридж, штат Массачусетс]
[июль, 1923?]
Мой дорогой Мерлин:
Твое письмо пришло сегодня утром, чтобы оживить мой слабый дух из-за красного ада прекрасного кембриджского дня. Я черпал силы из вестей о твоей плодотворной деятельности. Знай, что и я не бездействовал. Я исписал невероятное количество бумаги, всё лежит здесь, на полу, – но пока нет ничего, похожего на пьесу. Это не значит, что вещь [«The House» – «Дом» (позднее «Mannerhouse»)] не будет драматизирована – я думаю, что будет, – я просто атаковал большинство сочных мест и оставил в стороне конъюнктурные «если», «и», «но».
Летняя школа прибыла в вихре подъюбников и подштанников сиреневого цвета. Некоторые из прибывших имеют неплохую внешность – остальные преподают в школе. Есть несколько пожилых женщин…
Я очень много читаю. Библиотека Вайденера смялась под моим жестоким натиском. Десять, двенадцать, пятнадцать книг в день – это ничто. И время от времени я пишу. Пока тебя нет, я вижусь с немногими знакомыми. Райсбек [Кеннет Райсбек был ассистентом профессора Бейкера в «47-ой Студии» и близким другом Вулфа] бывает здесь со своей собакой – или наоборот, – но я редко его вижу. Профессор Бейкер читает рукописи в дебрях Нью-Гемпшира: остальные члены команды отсутствуют…
… Я думаю, что моя пьеса «Дом» произведет «фурор», потому что она основана на искренней вере в сущностное неравенство вещей и людей, на искренней вере в людей и хозяев, а не в людей и людей, на искренней вере в необходимость той или иной формы человеческого рабства – да, я имею это в виду – и, кроме того, она посвящена одному периоду нашей истории, который верил в эти вещи, боролся за них и был уничтожен из-за своей веры в них. Это я и прорабатываю в своей новой пьесе. Я нахожу это очень интересным.
Сегодня утром я читал «Амуры» Овидия. Это прекрасная латынь и прекрасная поэзия, хотя в целом она посвящена двум темам: «Как я получу это» и «Как прекрасно было, когда ты позволил мне это получить». Если бы наши современные романтики были так же честны, я бы не стал их пинать. Овидий никогда бы не написал стих к Деве Марии как косвенное обращение к…
[фрагмент обрывается на этом месте]
Джулии Элизабет Вулф
[Почтовая открытка]
Портленд, штат Мэн
4 августа 1923 года
Дорогая мама:
Я еду навестить моего друга Генри Карлтона в Мэдисон, штат Нью-Гемпшир, примерно в трех милях от дома профессора Бейкера. Я закончил два акта новой пьесы и пересмотрел другую, которую на этой неделе посылаю в Театральную гильдию, как они просили.
Я напишу тебе из Мэдисона.
Том
Осенью 1923 года Вулф не стал снова поступать в «47-ю Студию». Вместо этого он отправился в Нью-Йорк в конце августа, чтобы представить пьесу «Добро пожаловать в наш город» Театральной гильдии, которую попросили пересмотреть по рекомендации профессора Бейкера. В ожидании решения Гильдии он съездил в Эшвилл, а затем вернулся в Нью-Йорк, где в течение шести недель занимался сбором пожертвований от выпускников Университета Северной Каролины на строительство Мемориального здания Грэма. Следующее письмо Джорджу Уоллесу, бывшему члену «47-ой Студии», было написано, когда Вулф только приехал в Нью-Йорк и был в гостях у друга Уоллеса, Гарольда Дабла из рекламного агентства «Холланд».
Джорджу Уоллесу
[Плезантвиль, штат Нью-Йорк]
[август, 1923]
Мой дорогой Джордж:
Как и обещал, пишу тебе более подробно. Ты видишь, что я иногда держу свое слово. Я ночую у Даблов. Я позвонил им, и миссис Д. пригласила меня. Я пришел. Вот так я обращаюсь с вашими друзьями. Миссис Дабл просила меня остаться подольше, но я отказался по разным причинам. Главная из них заключается в том, что я считаю неуместным принимать приглашение этих добрых и гостеприимных людей, которые узнали меня исключительно от тебя, да и то случайно. Менее серьезные причины связаны с печатанием моей пьесы, которое ведется в типографии «Ремингтон» на нижнем Бродвее и требует сейчас моего ежедневного внимания. Я рассчитываю отдать ее в Гильдию к концу недели, но когда я получу от них весточку, знает только Бог в своей бесконечной мудрости. Мой дорогой старый друг, добавь несколько строк к своим молитвам обо мне и моей пьесе. И жги свечи, мальчик, жги свечи.
Еще одно соображение против того, чтобы я оставался здесь, заключается в том, что это будет стоить два доллара в день, плюс время. До сегодняшнего утра я был в гостях у Тейлора [Мерлин Тейлор] в Маунтин-Лейкс, но вчера вечером прошел слух, что его родственники должны приехать сегодня. Так что, как видите, меня постоянно перебрасывают. Теперь я постараюсь выкроить время, пока буду здесь, но где, не могу сказать. Если вы все еще думаете обо мне достаточно, чтобы писать, адресуйте свое письмо в рекламное агентство «Холланд». Хэл присмотрит за ним.
Джордж, если ты приедешь до моего отъезда, пожалуйста, дай мне возможность увидеть хоть что-то от тебя. Я чувствую себя мальчиком-героем Горацио Алджера: один в городе, где нет ямы, и все в таком духе, знаете ли. Я легкомыслен, но, мой дорогой старый Джордж, я представляю собой мальчика-героя не только в одном смысле. Видит Бог, я достаточно беден, и мое состояние в настоящее время завязано в носовом платке, в виде пьесы в десяти сценах – очень плохо напечатанной. К сожалению, у меня нет той склонности к зарабатыванию денег, которой, похоже, обладали все мальчики-герои Горацио. Джордж, если кто-нибудь когда-нибудь скажет тебе, что «деньги не имеют значения», приложите к его правому уху свинцовую трубку с моим самым добрым пожеланием. Бедность – это ужасная, в конечном счете унизительная вещь, и редко когда из нее получается что-то хорошее. Мы поднимаемся, старина, вопреки невзгодам, а не благодаря им. Неотапливаемая мансарда – не такое благоприятное место для художника, как хорошо прогретый кабинет, сыр и крекеры – не та пища, которой питается великая поэзия, и те, кто говорит, что это так, – глупцы и сентименталисты. Война! Война! Война насмерть за бессмыслицу! Конечно, великие поэты жили на чердаках; великие стихи писались на сыре и крекерах, но отстаивать это как истинную художественную среду – то же самое, что утверждать, что Мордекай Браун, имея всего три пальца, был великим бейсболистом, и что всем бейсболистам следует немедленно отрезать два пальца.
Но хватит об этом. Сейчас у меня есть одно чудовище – это деньги. У меня есть один идол-коммерсант, и кто бы ни говорил со мной об «искусстве» и «жертвенности» (слова, постоянно звучащие в устах жалких людишек, которые не знают ни того, ни другого), – когда они говорят так, я говорю: «я упаду на них и буду бить их по бедрам и ляжкам. Я никогда не буду уважать свои мозги, пока не соберу с них несколько золотых монет». Возможно, это постыдное признание, но оно отражает истинное состояние моих чувств…
До свидания. Надеюсь, мы еще увидимся, а если нет, то вы и дальше будете находить меня…
Кеннету Райсбеку
[Кембридж, Массачусетс]
[начало августа, 1923]
Мой дорогой Кеннет:
Вчера я болтался у твоего подъезда, как второй мальчик Лэдди. Я сделал все, кроме залива луны. Из твоего письма я заключил, что ты уехал в четверг около полуночи. Я зашел к тебе в час дня и решил, что ты уже в постели. Твое письмо стало для меня потрясением – потрясением, которое подстегнуло меня к лихорадочной деятельности. Я собираю вещи! Это последняя и самая тяжелая беда на сегодняшний день. Я еду к Карлтону [Генри Фиск Карлтон был членом «47 Студии» с 1920 по 1922 год и пригласил Вулфа посетить его в Мэдисоне, штат Нью-Гемпшир] на три или четыре дня – хотя Бог знает зачем. Возможно, для того, чтобы увидеть королевства моего мира с высочайшей горы, – если бы я только мог! С тех пор как ты уехал, несчастья сыплются как дождь. Прошлой ночью меня поймали в Гарвардском дворе с девушкой… я делал все, что мог. Полицейский был толстый и насупленный.
«Мистер, – сказал он, тяжело дыша, – это надо прекратить».
Я вскочил на ноги и спросил, что он имеет в виду, потому что не мог придумать ничего лучшего.
«Вы обнимались с этой девушкой, она сидела у вас на коленях. В университете это запрещено».
«Вы, пожалуйста, ограничьтесь своими замечаниями в мой адрес и в адрес Гарвардского университета», – сказал я, как можно более возвышенно.
«Простите», – сказал он, – таков мой приказ. Я просто выполняю свой долг». Тут он откинул лацкан пальто и показал значок размером с небольшую кастрюлю: «Это мои полномочия». Убедившись, что все официально, я вышел.
Я вернулся ко всему этому в полночь воскресенья. Завтра я уезжаю отсюда в шесть часов вечера – на пароходе в Портленд, штат Мичиган, – если только смогу оторваться от этой девчонки. И снова я в тяжких испытаниях, и быстро приближаюсь к разлому, физическому и душевному. Что же мне делать?… Как я могу держаться за кого-либо при нынешнем положении моих дел? Это безумие, безумие, безумие. Говорю тебе, выхода нет! И я, который боится и живет в абсолютном ужасе перед этим, больше всего нуждаюсь в том, чтобы кто-то обеспечил мне чисто физические потребности – обеспечил меня приличиями, штопанными саквояжами, белым бельем, чистыми простынями, отглаженными брюками и всеми прочими мелочами, от которых я могу опуститься!





