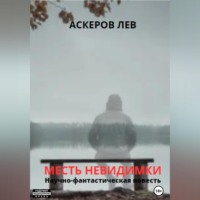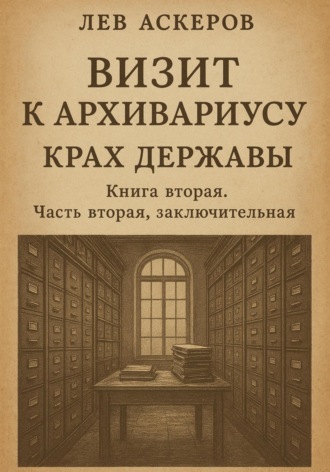
Полная версия
Визит к архивариусу. Исторический роман в двух книгах (IV)
Нас на место новой службы доставят самолетом. Куда – разглашать нельзя. Так приказал нам начальник особого отдела дивизии подполковник Бондарев. Нас к нему доставил замполит школы. «Давай своих чурок по одному» – приказал подполковник замполиту. На гражданке слово «чурка» меня оскорбило бы. Здесь же, когда подъем по команде «… твою мать!» и отбой под «… твою мать!», слово «чурка» не обижает.
«Ты умный парень, – сказал мне подполковник, – поэтому ходить вокруг да около не стану. Мы присмотрелись к тебе и решили направить на самый ответственный для Родины участок, в одно из элитных подразделений Ограниченного контингента Советских войск, выполняющего в Афганистане интернациональный долг. Наши воины, как ты знаешь, по просьбе твоих братьев мусульман освобождают их от баев, продавших свою страну американцам… И на твою долю, сержант, выпадает благородная миссия защитить интересы афганского народа»…
Я сразу понял, почему он назвал нас «чурками», и сказал, что у меня нет военного опыта. Подполковник взбесился. «Когда наши отцы и деды, – зашипел он, как змей, – шли на войну с немцами, у них тоже не было опыта. А ты – сержант Советской Армии! Тебя учили! Государство тратило деньги на тебя… Что написано в Уставе? Приказ – закон для подчиненных… Ты, после возвращения оттуда, как участник боевых действий, будешь пользоваться громадным уважением и большими государственными льготами. Захочешь квартиру – пожалуйста. Дачу – пожалуйста! Учиться в любом вузе – пожалуйста!.. Что тебе еще надо?!»
«Это приказ?» – спросил я у него. «Да! – ответил он. – Только с одной формальностью: вы должны на имя командира дивизии написать заявление. Я, такой-то такой, комсомолец и патриот великой нашей Родины, прошу направить меня добровольцем в действующую армию, выполняющую в Афганистане миссию интернационального долга»…
Подполковник дал лист бумаги с ручкой и стал диктовать.
Не знаю, как остальным, но этот умник-солдафон испортил мне радость от полученных лычек.
Мы пятеро «добровольцев» четвертый день в пустой казарме и ждем самолета на Кабул. Едим ржавую селедку, кирзовую кашу и постный борщ. Хочется сахара. Утром его дают полтора кусочка и столько же на ужин. Я еще иногда балую себя. Раз в неделю в военторге покупаю полкирпичика белого хлеба и бутылку ситро. Вкусно до головокружения. Ребятам приходится хуже. Их три рубля восемьдесят копеек уходят на «Аврору»2. Думали, что в Афгане нам будут платить больше. А новый начальник школы, который после полученного там ранения был назначен сюда, задавшему этот вопрос Артыкову показал пятерней между ног: «А ху-ху не хо-хо! Будете, как сержанты получать 10 рублей. Вы же солдаты срочной службы»…
Здравствуй, дорогой мой сыночек!
Считаю каждый день, когда ты вернешься. На календаре, у себя на работе, зачеркиваю числа.
Как тебе служится? На конверте твоего последнего письма странный адрес – г. Бузулук, п/я… Почему?
Ты смотри не завербуйся в Афганистан. Ты помнишь в соседней пятиэтажке Петю Новожилова? Тот, который пришел из Афганистана за полгод до того, как тебя забрали в армию. Он воевал в Афганистане. Вернулся с двумя орденами, зато без руки и без ноги. Он совсем спился и попрошайничает. Пенсия по инвалидности – кот наплакал. Продуктов достать не может. Пошел в военкомат, чтобы там ему помогли с талонами. А военком сказал ему, что не он посылал его в Афганистан и здесь у него не отдел социального обеспечения. Нахамил, оскорбил. Тогда Петька возьми и тресни его костылем. Хотел по голове, а попал по плечу. Так в милиции бедного калеку избили до полусмерти, а дело передали в суд. Осудили на три года. Сделали «поблажку» – не в тюрьму посадили, а отправили на вольное поселение. Когда его после десяти суток в кутузке отпустили домой, он за «поллитру» водки продал орден боевого Красного Знамени и орден Красной звезды. Напился и плакал, как ребенок, выпрашивая у людей мелочь на хлеб.
Нашей верхушке плевать на тех, кто проливал за них кровь. Они только на словах, по газетам и по телевизору коммунисты. Нет на них Сталина.
Умоляю тебя, не лезь ты в этот Афганистан.
У нас все хорошо. Страшно скучаем по тебе. Спасибо за поздравление с Первомаем. Были очень рады.
Горячо целуем, крепко обнимаем. Мама, Альфия.
9.05.83.
26-29 марта 83 г. Пишу в каптерке. Не помню, как здесь оказался. Вчера выворачивало меня наизнанку. Всю жизнь буду помнить… Взводный приказал моему отделению пройтись, с целью разведки, по сопке, где ночью шустрили душманы. Все мои ребята были в сборе, за исключением ефрейтора Мишки Свиридова. Его нигде не могли найти. « С утра за дурью пошел», – предположил командир взвода и, матерно выругавшись, приказал выступать без него. Мы цепью, в пяти-шести метрах друг от друга, осторожно, прыгая козлами с камня на камень, пробирались к макушке горы. Идти между скалами опасно. Удобное место для мин. Правда, стоя на глыбе, ты на виду, зато верный шанс не подорваться на мине.
С вершины внизу, среди скал, мы заметили едва заметный столбик дыма. Я решил, что духи собрались там позавтракать, и дал команду взять то место в кольцо. Между теми скалами находилась довольно широкая, уходящая покатом к подножию глинистая площадка. На ней два догорающих костра, стоявших друг от друга метрах в трех. Над их раскаленными углями, иногда оживающими огнем, вырывались языки пламени, облизывающие днища мятых, с вековой копотью, казанов, что стояли на треножных таганах. От них тянуло запахом вареного мяса. На расстеленной газете лежало несколько черствых, покрытых плесенью лепешек, нарезанный репчатый лук, полпачки крупной соли и кулечек с рассыпанным красным перцем… «Духи бежали и оставили нам пожрать», – потирая руки, сказал Гунин. «А ложек не оставили», – заметил рядовой Дегтярев. «Они дикий народ, жрут руками», – объяснял Гунин, заглядывая в казан поменьше.
На его поверхности, в сгустках жира, плавали волосы. Меня передернуло. «Поленились почистить», – подумал я. Гунин вытащил из чехла нож и стал ковыряться в нем. «Баранью бошку варили», – сказал он, тыкая во что-то твердое. Наконец, нащупав мякоть, он надавил на нее и вытащил наружу. И… я услышал свой крик: «Брось!». На ноже, из-под ослизлых желтых длинных волос покачивалась человеческая голова. Нож пронзил обе щеки, и она, зацепившись челюстями в зазубрины лезвия, повисла над казаном. «Так это Мишка Свиридов», – узнал Гунин и отшвырнул исходящую паром его голову в сторону. Она шлепнулась на сухую глину и покатилась вниз по склону. «А в этом котле его требуха» – вытягивая из нее стволом автомата кишки, сказал друг Свиридова Витька Воронков.
Все происходило для меня, как в чужом, нечеловеческом мире. Хотелось проснуться, но я не спал. Все наяву. Им, Гунину, Воронкову да и остальным, хоть бы хны! Они с утра уже под дурью. «Без нее, салака, – еще на днях, ширяясь, говорил мне Свиридов, – здесь никак нельзя».
Хочу закрыть глаза – они не закрываются. Хочу не слышать, а слышу. Из-за ватной, прозрачной стены доносится голос Гунина. Он кричит: «Здесь, на валуне, солдатская книжка с жетоном, а под ней роба3».
«Робу не трожь», – кричит ему Воронков. Он самый опытный из нас. Уже год в Афгане. Гунину – наплевать. Он тянет на себя запиханное под валун солдатское обмундирование. И тут – ослепительный всполох огня. Мина! Взрывная волна меня с корточек (я рвал) швырнула навзничь и лицом провезла по сухой глине. Что-то больно ударило между лопаток. «Осколок. Мне конец!» – мелькнуло в голове. Я вскочил и… О ужас! С моей спины упал облитый кровью сапог, с торчащей оттуда берцовой костью Гунина.
«Все живы?» – услышал я из-за ватной стены Воронкова. Камни от разлетевшегося валуна, под который душманы засунули и заминировали робу Свиридова, многих поранили. Больше всех досталось Пантюхину и Жукову. Пантюхину срезало ухо, а Жукову раздробило локоть.
«Ну, командир, – посмотрев на меня, неуместно весело рассмеялся Воронков, – у тебя рожа такая, будто бешеная баба исцарапала».
Отделением командовал уже не я, а Воронков. Они в одну из плащ-палаток вывалили сваренного Свиридова, а в другую собрали куски, оставшиеся от Гунина.
Я был никакой. Я никак не мог уснуть. Только забудусь, как перед глазами – на лезвие ножа сваренная голова Свиридова, кишки на дуле автомата, Гунинский сапог с костью… Я, видимо, независимо от себя дико вскрикивал… Воронков и другие «деды», которым до смерти хотелось спать, пригрозили мне, салаке, начистить харю, если я еще раз заору. Я встал и вышел в коридор к дневальным. Немного походил, а потом, сев на ступеньки перед входом в казарму, чуть задремал и снова от привиденного взвизгнул так, что из караульного помещения, с автоматами на изготовку, выбежали ротный и прапорщик Романенко. Поняв, в чем дело, ротный посоветовал: чтобы все прошло, дать мне курнуть анаши. Я сказал, что не курю. «Тогда ширните героинчика», – приказал ротный.
Я не знал, что они так и сделают. Прапорщик ушел, а затем, пряча за спиной руки, вернулся. Потом он, с двумя дневальными, повалили меня… Я не успел даже обидеться, как мне стало легко-легко. Мне было на все на свете наплевать…
Как я оказался в казарме – не помню. Не помню, что вытворял. Кажется, я зашел в караулку и потребовал у ротного спирта. Кажется, мы – я, ротный и прапорщик – пили его. Может, мне все снилось. Ведь я даже запах водки ненавидел, а тут спирт…
Меня никто не беспокоил. Я лежал на шинелях. Было здорово. И день минувший таким жутким уже не казался. Жалко Свиридова, но он сам виноват. Ему афганцы отомстили. Мне хорошо вспомнилось, как дней десять назад, когда я со своим отделением ближе к полудню вышел патрулировать по этому городку, ефрейтор вел себя по-хамски. Явно был под наркотой. Приставал к уличным продавцам, дергал женщин за паранджу. Я сделал ему замечание. «Под трибунал захотел?!» – пригрозил я ему. «Заткнись! Ты салака, а я «дед». Мы быстро научим тебя любить советскую власть».
«Научим и проучим», – острием локтя ткнул меня в бок Воронков.
Я смолчал. С ними, с «дедами», и офицеры не связываются. Они прошли школу покруче, чем наша школа СС4, – школу зеков. На гражданке были бандюгами, а здесь, как не раз говорил сам комполка, стали «гвардии паханами»…
Я с группой «молодых» отстал от них. Впереди, с засаленной чалмой и видавшим виды халате, трусил на ослике пожилой пуштунец. Отделение как раз выходило на базарную площадь, и тут с минарета неподалеку стоящей мечети запел муэдзин. Начался полуденный намаз. Я украдкой от своих, как мусульманин и как человек чтящий Аллаха, провел ладонью по лицу. Мне, комсомольцу, нельзя было показывать, что я верующий.
Чтобы не мешать упавшим на колени, прямо на площади молящимся людям, я дал команду остановиться. Свиридов с Воронковым продолжали идти. Им начихать на мою команду.
Пуштунец, что трусил впереди нас на ослике, остановился, расстелил коврик, опустился на колени и припал лбом к земле. Свиридов, показывая другу на выпирающий зад молящегося пуштунца, с разбега пнул его так, что тот кубарем покатился под стеллажи выставленных на продажу овощей и фруктов. Этого я уже стерпеть не мог. Подбежав к Свиридову, я ударил его ногой по яйцам, а затем двинул в скулу. Воронков же сзади прикладом автомата звезданул меня по затылку. Я упал, и они вдвоем с ефрейтором стали топтать меня. Краем глаза я видел, как тот пуштунец снова опустился на коврик и как ни в чем ни бывало продолжал молиться… «Молодые» уговорами сумели оттащить меня от «гвардии паханствующих стариков» и усадили, прислонив к глинобитной стене какого-то строения. «Мы тебя порвем, чурка», – пригрозил ефрейтор. «Тебе не жить!» – сплюнул Воронков.
От удара по затылку глаза мои будто крутились в орбитах, и с ними вместе – в мутном мареве вращались базар, мечеть и люди. Кто-то на затылок плеснул мне пригоршню холодной воды. Это был тот самый пуштунец, а рядом с ним еще несколько обступивших меня торговцев, которые с сочувствием что-то говорили мне. Я их понимал. За два месяца мне удалось немного изучить их язык. Пуштунец спросил меня, мусульманин ли я? Я в ответ кивнул, сказал, что я татарин, и добавил все, что знал религиозного от бабки с дедом – «Аллах акпер! Бси милах Иррахман Рахим, Аллах, Мухаммед я Али!..»5
Умный, на редкость благодушно-глубокий взгляд пуштунца, тепло огладил меня. «Хорош шурави» – сказал он и удалился в сопровождении уважительно обращавшихся с ним людей. Хоть одет и в рубище, подумалось мне тогда, а, видимо, из местных авторитетов.
Уже в расположении части, куда тут же дошел слух о случившемся, мне сказали, что, вероятней всего, тем пуштунцем был не кто иной, как сам Араб, предводитель всего мятежного Афганистана. Если это так, то Свиридову несдобровать…
Придя в казарму, я у себя в кармане обнаружил большие деньжищи, каких сроду не видел – три стодолларовые бумажки.
Здравствуй, дорогой, самый-самый хороший братик!
Я так соскучилась, ты даже не знаешь как. Когда меня обижают мальчишки, я говорю им: скоро приедет Мунир и он вам бошки поотрывает. Они после этого не лезут ко мне.
А еще я пишу потому, чтобы ты поругал маму. Я так плакала, так плакала, думала, что останусь совсем одна на свете. Хорошо, что тетя Катя раньше времени пришла домой и услышала в чулане шум. Открыла дверь, а там мама на веревке бьется. Молодец тетя Катя – отрезала веревку, вызвала скорую помощь. Ее с трудом спасли. В тот день она потеряла талоны на продукты и еще ей на заводе сказали, что нам квартиру не дадут. Самое обидное ей было, что секретарь райкома партии, кому она пошла жаловаться, сказал ей, что ваш муж, наш папочка, спьяну попал под пресс и его смерть на производстве не дает семье никаких льгот. Мама стала с ним ругаться. Сказала: папа на заводе нашем проработал 20 лет и она уже работает 20. Тогда он ее взял и выгнал из кабинета. И она вот так поступила. Скажи ей, что жить в уплотнении ничего плохого нет. Если бы мы жили не в одной квартире с тетей Катей, она тогда бы не спасла ее.
Мунечка, ты не говори ей, что я об этом тебе написала. Хорошо?
Учусь хорошо. Перешла в 8-й всего с одной четверкой по физкультуре. Моя фотография на доске «Наши отличники».
Жду не дождусь, когда ты вернешься. Очень люблю тебя и горячо целую.
Твоя сестра Альфия.
3 июня 1983г.
22 августа 83 г. Романенко – жук. Страшный жучила и вор. Последнее время на афганские толкучки он без меня не ездит. Я получше него объясняюсь и нахожу общий язык с местными. Теперь я хожу у него в любимчиках. Это после того, как недавно я помог ему продать по фантастической для него цене два ящика патронов со смещенным центром тяжести и два «калаша».
«Сержант! – подозвал он меня. – Ты давеча, когда патрулировал, здорово трепался на пушту».
«Подучился немного», – скромно подтвердил я.
«Вот как?!» – проговорил он и задумался, а потом, что-то решив для себя, приказал: «Завтра спозаранок едешь со мной на базар. У меня там дела. С ротным и взводным, считай, я договорился. Оставь за себя Воронка».
К базару мы подъехали до рассвета. К машине, за рулем которой сидел Романенко, тут же подошел часто попадавшийся мне на глаза таджик. Кроме слова «товар» по-русски ни бельмеса.
«Товар в кузове», – показывая большим пальцем назад, говорит прапорщик и, кивнув мне, соскакивает наружу.
В кузове два ящика. Таджик открывает их. Они доверху набиты патронами. Он роется в них, как в семечках. Смотрит маркировку. Потом поворачивается и, показывая понятными жестами, спрашивает: «Пух-пух?»
«Пух-пух в кабине», – успокаивает его Романенко. Таджик бежит за ним. Под сидением водителя два «калаша», обернутых в промасленную заводскую бумагу. «Якши! Якши!» – облизывает губы таджик и отсчитывает полторы тысячи долларов. Романенко хочет убрать их в карман. «Это за все?» – спрашиваю я у таджика. «Как договаривались», – бубнит он. Я поворачиваюсь к Романенко, незаметно для покупателя подмигиваю, выхватываю из его рук деньги и сую их обратно таджику. «Ты с ним договаривался, а товар мой. За такую цену я не продаю».
«Мало что ли? – не ожидая такого поворота, лепечет таджик. – Возьми еще пятьсот»…
«Раз я шурави – значит дурак? – накидываюсь я на него. – Ты продашь за 20 тысяч долларов, а мне даешь две?.. Так правоверные не поступают».
«Не за 20… От силы за 15», – проговаривается он.
«Нет, не продаю, – закрывая автоматы, говорю я и добавляю, что у меня есть клиент, который берет мой товар за 4500 долларов. – Он что-то опаздывает». Говорю, и демонстративно отворачиваюсь, делая вид, что кого-то высматриваю. «Ты что, сержант, делаешь?!» – матерится Романенко.
Я строю ему гримасы, чтобы он не вмешивался, а громко, на местном наречии, объявляю: «Мой товар за гроши не продам!»
Таджик отбежал к кому-то, стоящему тут же, за углом, и наблюдавшему за нами. Его отсутствие показалось мне очень долгим. Прапорщик шипел: «Убью, твою мать!..» Я знал: таджик с реальным покупателем следит за нами. И тут я иду на отчаянный шаг. Машу в толпу рукой и кричу: «Сеид! Сеид! Я здесь!» Радостно бью Романенко по плечу и деловито иду к кабине. И передо мной, как из-под земли, вырастает таджик. «Даю пять тысяч!» Я озабоченно оглядываюсь в сторону, куда только что кричал. К нашей машине направлялись двое мужчин. «Даю пять тысяч», – снова повторил таджик. «Хорошо! Быстро забирай!» Он свистнул, и к нам подбежало несколько человек. Таджик отсчитал мне все пять тысяч долларов.
Романенко стоял столбом.
«Поехали, товарищ прапорщик», – толкнул я его.
Немного отъехав, Романенко заглушил мотор. Вытащил деньги, пересчитал и опять, но уже доброжелательно, выматерился. Он не верил своим глазам: «Пять тыщ! Ну, ты и бестия, татарин!»
Отсчитав от полученных денег 500 долларов, он со словами «Твоя доля!» бросил их мне.
Тронувшись с места, он стал предупреждать меня, чтобы я держал язык за зубами и никому не рассказывал, куда мы ездили и, тем паче, что продавали и за сколько продали.
«В крайнем случае – за полторы тыщи. Если будут интересоваться командир полка или ротный… Понял!?»
«Могила», – успокоил я его.
Он с интересом посмотрел на меня.
«Что-то не так?» – спросил я.
«Все так, татарчонок, – засмеялся он. – Ты напомнил меня самого. Я такие же дела проворачивал вместе с капитаном-тыловиком в Анголе…»
«В Анголе?» – удивился я.
«Мы и там бывали. Куда только наша страна не засовывала носа!.. Так вот однажды нас, 20 человек, взяли там в плен. Полковника Балюкова, политического советника, и капитана Карпухина, моего наставника, африканцы на наших глазах разрубили на куски, а потом жарили на углях и ели. Их требуху бросали нам. Хорошо, что наши вертушки налетели. Лизнули напалмом по деревушке. Люди превращались в черные кочерыжки – женщины, малые ребятки… Я чуть не спятил. Как ты после Свиридова и Гунина… Ты видел, как горят живые люди?»
«Видел…»
Романенко ударил по тормозам. «Где?» – резко спросил он.
«В школе СС. Нам показывали документальные кадры, как американцы напалмом обдали людскую толпу… Страшное зрелище»…
«Адово. Не приведи Господь! – скукожившись, поддержал прапорщик. – Они там зверствовали».
«Вы и во Вьетнаме были?»
«Сослуживцы рассказывали. Но и мы с вьетнамцами дали им там дрозда под хвост. Да так, что они бежали оттуда без оглядки… Вообще, я должен сказать, американцы – не вояки. Без кофе и омлетов в бой не пойдут. Все норовят придумать роботов, чтобы воевали за них… Не то что мы, русские. Нам дай остограммиться и – вперед!»
Романенко был авторитетом в полку. Всех ротных и взводных посылал куда подальше. Признавал только батю – командира полка. Ни с кем особо не дружил. Выпивать выпивал со многими, но держал всех на расстоянии. И всем было удивительно его открытое расположение ко мне. С его подачи мне присвоили старшего сержанта и назначили заместителем командира взвода. Воронков стал заискивать передо мной, а так как он держал шишку над другими «дедами», заставил и их уважать меня.
Сегодня мы с прапорщиком толкнули новый Уазик командира полка. Взяли целых 12 тысяч долларов. На мой вопрос, а не спросит ли командование, куда подевался вчера только выделенный бате наш советский новенький джипик, он ответил: «Это проблемы начфина. Война все спишет. И нас с тобой, татарчонок, спишет», – по-деревянному засмеялся он.
Из сегодняшнего барыша Романенко отстегнул мне еще 500 долларов. У меня скопилось 1800 долларов.
16 февраля 84 г. Ротный подлец. Чтобы он сдох. Не могу без дозы. Ломка – невмоготу. Это он меня посадил на иглу. Что я буду делать на гражданке? Там дурь на вес золота. Где буду ее доставать? На что? Как буду жить?.. Я же законченный наркоман. Лучше погибнуть здесь. А как мама? Как Альфия? Без меня они пропадут. Да и с таким, какой я сейчас, тоже пропадут… Я решил мои накопления переслать домой. Вчера об этом сказал прапорщику. Он обещал помочь. И вот буквально сейчас велел идти во вторую роту к некоему сержанту Дегтяреву, который после ранения едет на побывку домой, в Новосибирск, и по дороге может завезти посылочку в Красноярск. Бегу туда.
Миленький Мунечка, здравствуй!
Пишет тебе твоя сестричка Альфия. Поздравляю тебя с Днем Советской Армии. Какой ты у нас молодец! Получили от тебя 1500 долларов. Принес их нам твой сослуживец, с которым ты в Монголии строишь тоннели. Он говорит, что большие командиры тебя уважают и всем солдатам там хорошо платят.
Подожди, кто-то барабанит в дверь.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Мунечка, миленький, я одна. Я не знаю что делать? Мама в тюрьме. Ее арестовали милиционеры за американскую валюту, которую она меняла на наши рубли. Это, оказывается, преступление против государства. Так они говорят.
Барабанили нам в дверь милиционеры. Делали обыск. Все перевернули вверх дном. Разбили телевизор.
Я одна. Спаси, пожалуйста, маму. Срочно приезжай. Два дня с утра до ночи стою возле милиции. Меня к ней не пускают. Милиционеры злые, как звери.
Твоя сестренка Альфия.
26 февраля 1984 г.
1 марта 84г. Реву над письмом Альфии. Мама в тюрьме. Из-за меня, идиота! «Из-за тебя, сукин сын! – чуть ли не кулаками набросился на меня Романенко, когда прочел ее письмо. – Не мог послать нашими деревянными?! Чурка татарская!..»
«Что делать, товарищ прапорщик?»
«Что делать?! Что делать?!– передразнил он. – Спасать девчушку и матушку. Наши легавые хуже душманов… Жди здесь. Я к бате».
Сграбастав Альфушкино письмо, он побежал в штаб. Его не было часа два. Я уж думал, его поход к бате – пустой номер. И что может сделать командир полка?..
Я уже отчаялся, а тут в каптерку вбегает посыльный из штаба. «Товарищ старшина, вам приказано немедленно явиться к командиру полка».
В кабинете у полковника – начальник особого отдела и Романенко. «Что же ты так, Аглиуллин, подставил родных и нас?» – говорит начальник особого отдела.
А у меня текут слезы.
«Успокойся, – говорит батя. – Мы тут подумали и решили поступить так. Ты должен быть в курсе…»
Полковник протянул мне фирменный бланк Ограниченного контингента войск.
ПРОКУРОРУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Как стало известно, в Красноярске, органами внутренних дел за валютные операции взята под стражу мать старшины срочной службы Аглиуллина Мунира Гайнановича – гражданка Аглиуллина (Козырева) Галина Филипповна. Ей инкриминируется серьезное деяние по спекуляции валютой. При задержании и обыске у ней в квартире было изъято 1500 долларов США.
В связи с этим инцидентом, для Вас и для следствия сообщаем следующее:
Означенная сумма действительно принадлежала сыну гражданки Аглиуллиной Г.Ф. старшине Аглиуллину М.Г. и он ее переслал матери через отбывшего в отпуск сослуживца сержанта Дегтярева Константина Алексеевича.
Взвод под командованием старшины Аглиуллина М.Г. в кровопролитной схватке с душманами овладел караваном, груженым оружием, героином в количестве 150 килограммов и 20-ю миллионами долларов. Трофеи были оприходованы в надлежащем порядке. Валюта целиком поступила в казну.
Старшина Аглиуллин М.Г. был представлен к правительственной награде и премирован высшим командованием двумя тысячами долларов США. Начальник финансовой службы, по причине отсутствия в кассе советских рублей, выдал ему всю сумму валютой.
Старшина Аглиуллин М.Г., не согласовав с командованием и не переконвертировав доллары США на рубли, послал их вышеназванным путем домой.
Сообщая об этом, просим Вас вмешаться в ход следствия и снять с гражданки Аглиуллиной (Козыревой) Галины Филипповны обвинения в спекуляции валютой.