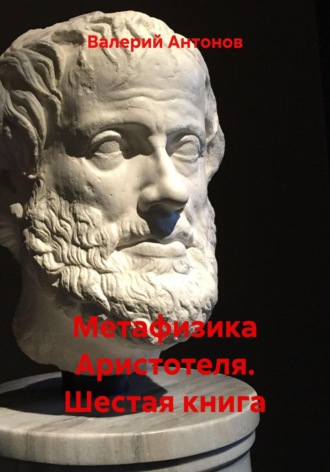
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Шестая книга
4. Триединое разделение теоретической философии
ὥστε τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητικαί, μαθηματική, φυσική, θεολογική· οὐ γὰρ ἄδηλον ὅτι εἰ ἔστι τι θείον, ἐν τῇ τοιαύτῃ φύσει ἔστι, καὶ τὴν τιμιωτάτην δεῖ περὶ τοῦ τιμιωτάτου γένους εἶναι. αἱ μὲν οὖν θεωρητικαὶ τῶν ἄλλων αἱρετώτεραι, αὕτη δὲ τῶν θεωρητικῶν. [3]
[3] «Так что теоретических философий будет три: математическая, физическая, теологическая. Ибо не неясно, что если божественное где-то существует, то оно пребывает в такой [именно] природе [= среди такого рода сущего], и [наука] наипочтеннейшая должна иметь дело с наипочтеннейшим родом [сущего]. Итак, созерцательные [науки] предпочтительнее прочих, а эта [наука] – предпочтительнее созерцательных».
В этом заключительном тезисе Аристотель подводит итог всему предшествующему анализу, предлагая ставшее каноническим тройственное деление теоретического знания (φιλοσοφίαι θεωρητικαί). Критерием деления служит не метод, а природа объекта, что отражает фундаментальный онтологизм аристотелевского мышления. Иерархия наук выстраивается строго в соответствии с «благородством» (τὸ τίμιον) их объекта, что является прямым следствием аристотелевского понимания науки как направленной на познание причин: чем выше и первее причина, тем ценнее знание о ней.
Комментарий: Альберт Швеглер в своем комментарии подчеркивает, что термин «θεολογική» (теологическая) используется здесь не в позднейшем смысле систематического богословия, а строго в рамках аристотелевской метафизики. Это «наука о божественном», но поскольку божественное у Аристотеля – это прежде всего неподвижный перводвигатель, ум-нус, являющийся высшей причиной и целью всего сущего, то эта наука тождественна «первой философии», исследующей сущее как таковое и первые начала. Таким образом, теология и онтология у Стагирита совпадают (Schwegler A. Die Metaphysik des Aristoteles. Tübingen, 1847. Bd. III. S. 15-16).
Алексей Фёдорович Лосев, анализируя это место, видит в нем яркое выражение аристотелевского иерархизма. «Вся философия Аристотеля, – пишет Лосев, – пронизана идеей иерархии… Низшее определяется через высшее, высшее есть цель и смысл низшего». Поэтому физика подчинена математике (как более абстрактной), а математика – теологии, так как ее объект, будучи абстракцией, не обладает самостоятельным бытием и, следовательно, не может быть конечной причиной самого себя. Высшая наука – это наука о высшей причине (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. С. 105-106).
Дмитрий Владимирович Бугая обращает внимание на аргументативную структуру заключения: «не неясно, что…» (οὐ γὰρ ἄδηλον ὅτι…). Это не доказательство существования божественного, а постулирование условия: если божественное существует (а для Аристотеля это несомненно), то оно по своей природе должно быть неподвижным и отделимым, а следовательно, наука о нем будет наивысшей. Этот ход мысли показывает, что структура теоретического знания у Аристотеля выводится из его фундаментальной онтологической картины мира (Бугая Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 238-239).
Известный современный зарубежный комментатор Дэвид Росс (W.D. Ross) отмечает, что это триединое деление – не просто классификация, а утверждение о порядке мироздания. Теология является «наипочтеннейшей» (τιμιωτάτην) не только из-за своего объекта, но и потому, что она наиболее точна (так как имеет дело с простейшими началами) и менее всего связана с утилитарными целями. Она есть знание ради самого знания, что для Аристотеля является высшей формой человеческой деятельности (Ross W.D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1924. P. 356-357).
Данный пассаж является кульминацией всей главы, где Аристотель окончательно утверждает:Σημασία/Πρόβλημα (Смысл/Проблема): 1. Триада теоретических наук: Физика -> Математика -> Теология (Первая философия).
2. Критерий иерархии: Ценность науки определяется ценностью и онтологической самостоятельностью ее объекта (ἡ τιμιωτάτη περὶ τοῦ τιμιωτάτου γένους). Объект теологии – вечное, неподвижное, самосуществующее и божественное – является наивысшим.
3. Вершина познания: Теология – это не просто одна из наук, а «наука наук», наиболее предпочтительная (αἱρετώτερα) как по своему объекту, так и по своей природе, поскольку представляет собой чистейшую форму созерцания (θεωρία), являющуюся целью и завершением человеческого разума.
Проблема, которую разрешает это разделение, – это проблема единства и структуры знания. Аристотель показывает, что мир познаваем системно и иерархично, а разнородные области сущего (подвижное природное, абстрактно-неподвижное математическое и абсолютно-неподвижное божественное) требуют различных научных подходов, объединенных, однако, под общим главенством первой философии, задающей универсальные онтологические основания.
5. Первая философия как наука о сущем как сущем
εἰ δὲ μή ἐστί τις ἑτέρα οὐσία παρά τὰς φύσει συνεστηκυίας, ἡ φυσικὴ ἂν εἴη πρώτη ἐπιστήμη· εἰ δ᾽ ἐστὶν οὐσία ἀκίνητος, αὕτη προτέρα καὶ φιλοσοφία πρώτη, καὶ καθόλου οὕτως, ὅτι πρώτη· καὶ περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὂν ταύτης ἂν εἴη θεωρῆσαι, καὶ τί ἐστι καὶ τὰ ὑπάρχοντα ᾗ ὄν. [4]
[4] «Если же не существует некоторой иной сущности помимо [тех, что] составлены по природе, тогда физика была бы первой наукой; но если существует некоторая неподвижная сущность, то эта [наука] – первее и [есть] первая философия, и всеобщая именно таким образом, что она первая; и о сущем [именно] как сущем [т.е. поскольку оно сущее] должно быть делом ее [этой науки] исследовать – и что оно есть, и [все] то, что ему присуще поскольку оно сущее».
В этом финальном, синтезирующем пассаже Аристотель разрешает кажущуюся антиномию: является ли первая философия частной наукой о божественном (теологией) или универсальной наукой о сущем как таковом (онтологией). Его гениальный ответ: она является всеобщей именно потому, что она первая (καθόλου οὕτως, ὅτι πρώτη). Причина всего сущего, высший род сущего, необходимо является и всеобщим принципом, объясняющим все сущее в его бытии.Комментарий: Альберт Швеглер видит в этом утверждении сердцевину аристотелевской метафизики. Он поясняет, что «первая» (πρώτη) здесь означает не временной приоритет, а приоритет по достоинству и по объяснительной силе. Поскольку неподвижная сущность есть первая причина и конечная цель всего сущего, то наука, изучающая ее, по необходимости изучает и фундаментальные свойства (τὰ ὑπάρχοντα), без которых ничто не может быть сущим – единство, множество, возможность, действительность и т.д. Таким образом, теология через исследование высшей причины становится универсальной онтологией (Schwegler A. Die Metaphysik des Aristoteles. Tübingen, 1847. Bd. III. S. 17-18).
Алексей Фёдорович Лосев подчеркивает диалектическое единство этих двух определений. «Аристотель, – пишет он, – вовсе не противопоставляет теологию онтологии… Наоборот, именно потому, что бог понимается у Аристотеля как принцип всего сущего, как "сущее в себе" и как "сущее само по себе", постольку учение о боге и есть учение о сущем как таковом». Лосев указывает, что это снятие противоречия между частным и общим является одним из величайших достижений аристотелевской мысли (Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. С. 110).
Дмитрий Владимирович Бугая акцентирует внимание на формулировке «περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὄν» («о сущем поскольку оно сущее»). Это, по его мнению, строгое техническое определение предмета онтологии. Частные науки отсекают («абстрагируют») лишь один аспект сущего (движение, количество), тогда как первая философия изучает то, что принадлежит сущему непременно и исключительно в силу его бытия (τὰ ὑπάρχοντα ᾗ ὄν). Но так как высшим и первым среди сущего является божественный Ум, то именно его анализ позволяет выявить эти универсальные характеристики бытия (Бугая Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 240-241).
Французский комментатор Пьер Обеник (Pierre Aubenque) в своей фундаментальной работе «Проблема бытия у Аристотеля» видит в этом месте не просто синтез, а «условие возможности метафизики как науки». Аристотель, по его мнению, обосновывает, что вопрос о бытии (онтология) может быть поставлен только как вопрос о высшем бытии (теология). Без допущения вечной неподвижной субстанции наше знание о сущем распалось бы на множество частных наук, и у нас не было бы права говорить о сущем как таковом. Таким образом, теологический постулат является фундаментом для онтологического вопроса (Aubenque P. Le problème de l'être chez Aristote. Paris: PUF, 1962. P. 45).
Здесь Аристотель дает окончательное и полное определение первой философии, снимая кажущееся противоречие между ее двумя аспектами:Σημασία/Πρόβλημα (Смысл/Проблема): · Как теология: она изучает высший род сущего – вечную, неподвижную, нематериальную субстанцию (божественное).
· Как онтология: она изучает сущее как таковое (ᾗ ὄν), т.е. самые общие атрибуты и причины всего, что существует.
Разрешение проблемы: Эти два определения не исключают, а взаимообуславливают друг друга. Именно потому, что первая философия изучает первую и высшую причину всего сущего, она необходимо является и наиболее общей наукой. Причина бытия всего сущего (божественное) не может быть частным предметом; она является универсальным принципом, раскрывающим природу бытия как такового. Таким образом, первая философия является общей не через абстракцию (как математика), а через приоритетность своего объекта, который служит основанием для всего остального. Это делает ее наукой о первых причинах и началах, то есть подлинной «мудростью» (σοφία).
Глава 2. О случайном бытии и невозможности его научного познания.
1. Многозначность бытия и выделение случайного (акцидентального)
[ Поскольку сущее высказывается многозначно, […] но помимо этого [есть сущее] в возможности и в действительности, […] сначала скажем о привходящем [бытии], что о нём нет [никакого] исследования. ]Основной текст: Ἐπεὶ δὲ τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς, […] ἀλλὰ μὴν καὶ παρὰ ταῦτα τὸ δυνάμει τε καὶ ἐνεργείᾳ, […] πρῶτον περὶ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς λέγωμεν, ὅτι οὐκ ἔστι περὶ αὐτοῦ θεωρῆσαι. Аристотель начинает главу с напоминания об основной для всей «Метафизики» идеи – многозначности (πολλαχῶς λέγεται) бытия (τὸ ὄν), которое раскрывается через категории (Кат. 4), как истина и ложь (Кат. 6) и, наконец, через ключевое для Книги E различение бытия в возможности (δυνάμει) и в действительности (ἐνεργείᾳ) (Met. 1045b32–1046a2)[1]. Среди этого многопланового многообразия он сразу выделяет один тип – случайное, или акцидентальное бытие (τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ὄν / τὸ συμβεβηκός), и формулирует центральный тезис главы: о нём не может быть науки (ἐπιστήμη) или теоретического исследования (θεωρία)[2].Разъяснение: Как отмечает Альберт Швеглер, этот переход не случаен. Многозначность бытия требует своего рода «таксономии» видов бытия, и первой на очереди оказывается та его форма, которая наименее всего поддается научному упорядочиванию. Акцидентальное – это то, что «выпадает» из строгой причинно-следственной связи и потому представляет собой «границу научного познания» («Die Metaphysik des Aristoteles», Bd. III, S. 182)[3]. А. Ф. Лосев в своих комментариях подчеркивает, что Аристотель здесь проводит четкую демаркацию между устойчивым, сущностным бытием, которое является предметом метафизики, и бытием случайным, которое лежит в сфере мнения (δόξα) и единичного стечения обстоятельств («Аристотель. Метафизика», прим. 24)[4]. Д. В. Бугай акцентирует внимание на том, что «аристотелевское отрицание научного статута учения о случайном не есть его полное отрицание, но есть указание на его инаковость по отношению к бытию необходимости» («Бытие и случай: учение Аристотеля» // Вестник РУДН, 2007, с. 56)[5].
Таким образом, уже в первом предложении задается проблемное поле: метафизика как наука о сущем qua сущее должна определить свои границы, и первой из них оказывается невозможность науки о случайном.
Источники и литература:
[5] Бугай Д. В. Бытие и случай: учение Аристотеля // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. – 2007. – № 2. – С. 54–61. (Работа современного отечественного специалиста, подробно анализирующая именно эту главу).[1] Aristotelis Metaphysica. Recognovit W. Christ. Leipzig: Teubner, 1886. P. 98. (Стандартное критическое издание греческого текста). [2] Там же. [3] Schwegler, Albert. Die Metaphysik des Aristoteles. Grundtext, Übersetzung und Commentar nebst erläuternden Abhandlungen. Vier Bände. Tübingen: Verlag und Druck von Ludwig Fr. Fues, 1847–1848. Bd. III, S. 182. (Классический немецкий комментарий, подробно разбирающий логическую структуру аргументации Аристотеля). [4] Аристотель. Метафизика / Перевод и комментарии А. Ф. Лосева. – М.: «Мысль», 2006. – (Классическая философская мысль). – С. 245–246, прим. 24. (Лосев дает не только перевод, но и глубокий филолого-философский комментарий, связывающий понятие συμβεβηκὸς с общей онтологической структурой аристотелизма). Дополнительная рекомендуемая литература по теме:
· Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1924. P. 357–359. (Авторитетнейший англоязычный комментарий, разбирающий значение термина συμβεβηκὸς и его отличие от других видов бытия).
· Reale, Giovanni. Aristotele, Metafisica. Saggio introduttivo, testo greco con traduzione a fronte e commentario. Vol. II. Milano: Vita e Pensiero, 1993. P. 289–291. (Фундаментальный современный итальянский комментарий с детальным анализом).
· Ахманов, А. С. Логическое учение Аристотеля. – М.: Госполитиздат, 1960. – С. 45-48. (Рассматривает акцидентальное как логическую категорию).
2. Доказательство отсутствия науки о случайном
[ Что нет науки о нём [о случайном], это ясно; ибо ни одна [наука] его не исследует – ни практическая, ни творческая, ни теоретическая. […] Строитель ведь ничуть не больше строит того, что происходит от случая и является бесконечным; ибо бесконечно много привходящего у построенного и сущего. […] Подобным же образом и в математических [науках] ни одно исследование не рассматривает привходящее, […] и потому Платон в некотором отношении хорошо сказал, что софистика, мол, занимается не-сущим; ибо рассуждения софистов больше всего – о привходящем. ]Основной текст: ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη αὐτοῦ, δῆλον* οὐδεμία γὰρ αὐτὸ θεωρεῖ οὔτε πρακτικὴ οὔτε ποιητικὴ οὔτε θεωρητική. […] ὁ γὰρ οἰκοδόμος οὐδὲν μᾶλλον οἰκοδομεῖ τῶν ἀπὸ τύχης συμβαινόντων καὶ ἀπείρων ὄντων* ἄπειρα γὰρ τὰ συμβεβηκότα τῷ οἰκοδομηθέντι καὶ τῷ ὄντι. […] ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν μαθηματικῶν οὐδεμία σκοπεῖ τῶν συμβεβηκότων θεωρία, […] καὶ διὰ τοῦτο Πλάτων καλῶς ἐν τινὶ εἶπεν, ὅτι τὴν σοφιστικὴν περὶ τὸ μὴ ὂν εἶναί φησιν* οἱ γὰρ τῶν σοφιστῶν λόγοι περὶ τὸ συμβεβηκὸς μάλιστά εἰσιν. Аристотель переходит к системному доказательству своего тезиса, анализируя три основных класса наук[6]:Разъяснение: 1. Практические (πρακτικὴ) и творческие (ποιητική): На примере архитектора (ὁ οἰκοδόμος) Аристотель показывает, что искусство строителя направлено на сущность дома – его форму и цель. Однако у построенного дома возникает бесконечное (ἄπειρα) множество случайных свойств (например, что он понравился прохожему, что его тень падает в определенное место, что он стал чьим-то любимым домом и т.д.), которые не являются продуктом искусства строителя и не могут быть им предусмотрены[7].
2. Теоретические (θεωρητική): Геометр изучает треугольник как таковой, его необходимые и вечные свойства (сумма углов равна двум прямым). Он абстрагируется от всех акцидентальных характеристик конкретного нарисованного треугольника (что он начерчен мелом, что одна из линий толще другой, что он изображен на песке и т.д.)[8].
Альберт Швеглер подчеркивает, что этот аргумент основан на самой природе научного знания (ἐπιστήμη), которое, по Аристотелю, всегда есть знание общего и необходимого. Случайное же по определению единично, необще и ненеобходимо, а потому не может быть предметом науки. Бесконечность акцидентального делает его систематическое познание логически невозможным («Die Metaphysik…», Bd. III, S. 184)[9].
Завершает аргументацию отсылка к Платону. Аристотель частично соглашается с его оценкой софистики как дискурса о не-сущем (τὸ μὴ ὄν). Однако, как отмечает В. Д. Росс, Аристотель уточняет платоновскую мысль: софисты оперируют не абсолютным не-сущим, а именно акцидентальным бытием, подменяя сущностные признаки случайными и создавая парадоксы (например, «сидящий Сократ» и «стоящий Сократ» – это разное, значит, Сократ не тождественен себе). Таким образом, софистика – это псевдо-наука, занятая самым зыбким и ненадежным родом бытия[10].
А. Ф. Лосев видит в этом пассаже глубокий онтологический смысл: «Аристотель здесь устанавливает иерархию бытия. На вершине – сущность, предмет подлинного знания. Внизу – хаос акцидентального, область мнения и софистической игры понятиями. Метафизика как наука должна четко осознавать эту границу» («Аристотель. Метафизика», прим. 25)[11].
Источники и литература:
[11] Аристотель. Метафизика / Комм. А. Ф. Лосева. С. 246.[6] Aristotelis Metaphysica. 1026b4-6. [7] Там же. 1026b6-10. [8] Там же. 1026b10-13. [9] Schwegler, A. Die Metaphysik des Aristoteles. Bd. III, S. 184. [10] Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford: Clarendon Press, 1924. P. 358. (Ross подробно анализирует связь и различие между платоновским «не-сущим» и аристотелевским «акцидентальным»). Дополнительная литература:
· Маковельский, А. О. Метафизика Аристотеля. – М.: Либроком, 2011. – С. 120-121. (Классический отечественный труд, разъясняющий аргументацию Аристотеля против возможности науки о случайном).
· Апельт, О. Комментарий к Метафизике Аристотеля / Пер. с нем. – СПб.: Алетейя, 2022. – С. 89-90. (Современный перевод классического немецкого комментария).
3. Природа и причина случайного бытия
[ Из сущего одно [имеет] причину как привходящее, другое – по необходимости. […] Есть иной род, начало которого – "как правило"; и это есть то, что может быть и иным. Из этого-то и возникает привходящее. […] Причина же в том, что имеется такая материя, которая может быть иной. ]Основной текст: Τοῦ δ᾿ ὄντος τὸ μὲν ἐστὶ κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιον, τὸ δ᾿ ἐξ ἀνάγκης* […] ἕτερον δέ ἐστι γένος οὗ ἡ ἀρχὴ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, τοῦτο δ᾿ ἐστὶ τὸ ἐνδεχόμενον καὶ ἄλλως ἔχειν* ἐκ τούτου δὲ γίγνεται τὸ κατὰ συμβεβηκός. […] αἴτιον δὲ τὸ ὕλην ἔχειν τοιαύτην ἥτις ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν. После отрицательного определения (чем случайное не является) Аристотель переходит к положительному. Он противопоставляет два модуса бытия:Разъяснение: 1. Необходимое (ἐξ ἀνάγκης): то, что не может быть иным, всегда и неизменно.
2. Случайное (κατὰ συμβεβηκός): то, что происходит не всегда и не по необходимости (οὐκ ἐξ ἀνάγκης), а лишь «как правило» (ὡς ἐπὶ τὸ πολύ).
Ключевая категория здесь – «ὡς ἐπὶ τὸ πολύ». Как поясняет В. Д. Росс, это не статистическая частота, а онтологический принцип, выражающий природную склонность или тенденцию вещи, реализующуюся при отсутствии помех[12]. Случайное же – это отклонение от этой природной нормы, то, что «может быть и иным» (ἐνδέχεται ἄλλως ἔχειν).
Причиной (αἴτιον) такого отклонения Аристотель объявляет материю (ὕλη). Именно материя, как пассивный и неопределенный субстрат, является принципом изменчивости, множественности и возможности инаковости. Как пишет Альберт Швеглер, «материя есть основание возможности, а потому и основание всего случайного… она есть принцип не-необходимости в природе» («Die Metaphysik…», Bd. III, S. 189)[13].
А. Ф. Лосев видит в этом глубокий диалектический ход: «Аристотель не просто отбрасывает случайное как несуществующее. Он находит его онтологическую основу – материю. Случайное не беспричинно, его причина – в инаковости материи, в её способности не подчиняться форме до конца» («Аристотель. Метафизика», прим. 26)[14].
Примеры, которые приводит Аристотель, иллюстрируют эту мысль:
· Холод в собачьи дни (в разгар летней жары): Природа (φύσις) и форма времени года диктуют жару («как правило»). Холод – это случайное отклонение, причиной которого является неопределенность и изменчивость материального субстрата атмосферы[15].
· Человек бел: Сущность человека – быть разумным живым существом. Белизна – случайный, материальный признак, не вытекающий из формы человека[16].
· Строитель исцелил человека: Сущность (форма) строителя – умение строить. Исцеление – это акцидентальное свойство, которое может принадлежать ему лишь постольку, поскольку он случайно является также и врачом. Его материальная, конкретная воплощенность позволяет ему обладать множеством таких случайных атрибутов[17].
Таким образом, Аристотель не устраняет случайное, а помещает его в свою онтологическую систему, выводя его из фундаментального принципа – дуализма формы и материи.
Источники и литература:
[17] Там же. 1027a29-32.[12] Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. Vol. I. P. 359. (Ross подчеркивает, что «как правило» у Аристотеля – это не эмпирическое обобщение, а выражение телеологической природы вещи). [13] Schwegler, A. Die Metaphysik des Aristoteles. Bd. III, S. 189. [14] Аристотель. Метафизика / Комм. А. Ф. Лосева. С. 247. [15] Aristotelis Metaphysica. 1027a20-22. [16] Там же. 1027a27-29. Дополнительная литература:
· Bostock, D. Aristotle's Metaphysics Books Z and H. Translated with a Commentary. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 18-21. (Анализирует связь материи и случайности в аристотелевской онтологии).
· Бугай Д. В. Аристотель о случайном и его интерпретации в современной философии // Философский журнал. 2010. № 2. С. 45-60. (Современный анализ, показывающий актуальность аристотелевской концепции случайного).
4. Окончательный вывод о невозможности науки о случайном
[ Что существует нечто сущее как привходящее – ясно. […] Но тем не менее, хотя все причины таковы, причиной называется то же самое и единое. […] Потому-то о нём и нет науки, как было сказано; ибо всякая наука – или о всегда сущем, или о том, что как правило. […] Ибо как можно [это] изучить или научить другого? ]Основной текст: ὅτι μὲν οὖν ἔστι τι ὂν κατὰ συμβεβηκός, φανερόν* […] ἀλλ᾿ ὅμως ἐπεὶ πάντων οὐσῶν αἰτίων τοιούτων αἴτιον τὸ αὐτὸ καὶ ἓν λέγεται, […] διότι οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη αὐτοῦ, εἴρηται* ἡ γὰρ πᾶσα ἐπιστήμη ἢ τοῦ ἀεὶ ὄντος ἢ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. […] πῶς γὰρ ἄν τις καὶ μάθοι ἢ διδάξειεν ἄλλον; Аристотель подводит итог своему анализу. Он признает онтологический статус случайного бытия (ἔστι τι ὂν κατὰ συμβεβηκός – «нечто сущее как привходящее есть»), но окончательно утверждает его эпистемологическую несостоятельность. Ключевой аргумент заключен в дилемме, составляющей саму природу научного знания (ἐπιστήμη)[18]:Разъяснение: 1. Наука о необходимом (τοῦ ἀεὶ ὄντος): изучает то, что существует вечно и не может быть иным (например, математические объекты, небесные сферы).
2. Наука о том, что бывает «по большей части» (τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ): изучает природные, телеологические процессы, имеющие внутреннюю цель и тенденцию, которая реализуется, если ничто не помешает (физика, биология).
Случайное же (τὸ συμβεβηκός) не подпадает ни под одну из этих категорий. Оно – «индетерминированное» (τὸ ἀόριστον), как назовет его в других местах Аристотель[19]. Его нельзя предсказать, обобщить или вывести из универсальных принципов. Оно – разрыв в цепи причинности, единичное событие, не подчиняющееся общим законам.
Риторический вопрос «Как можно это изучить или научить другого?» (πῶς γὰρ ἄν τις καὶ μάθοι ἢ διδάξειεν ἄλλον;) является кульминацией аргумента. Альберт Швеглер видит в этом вопросе указание на саму суть научного метода: наука опирается на универсальные определения и демонстративные силлогизмы, которые по своей природе не могут иметь своим предметом нечто бесконечно разнообразное и лишенное единой причины («Die Metaphysik…», Bd. III, S. 191)[20]. А. Ф. Лосев добавляет, что этим вопросом Аристотель «отделяет строгое, академическое знание от софистического трюкачества и мнения толпы, которая как раз и живет в мире случайных впечатлений и событий» («Аристотель. Метафизика», прим. 27)[21].
Таким образом, первая философия (метафизика), будучи строгой наукой о сущем qua сущее, должна изучать бытие как таковое в его необходимых атрибутах и первопричинах (сущность, акт и потенция, неподвижный двигатель). Задача метафизики – открыть устойчивую структуру реальности, стоящую за хаосом акцидентальных явлений. Случайное не отрицается, но маркируется как периферия онтологии, не способная стать предметом теоретического знания.
Источники и литература:
[21] Аристотель. Метафизика / Комм. А. Ф. Лосева. С. 248.[18] Aristotelis Metaphysica. 1027a19-28. [19] См., напр.: Aristotelis Physica. 197a8-13. (В «Физике» Аристотель прямо называет случайное «неопределенным» (ἀόριστον)). [20] Schwegler, A. Die Metaphysik des Aristoteles. Bd. III, S. 191. Дополнительная литература:









