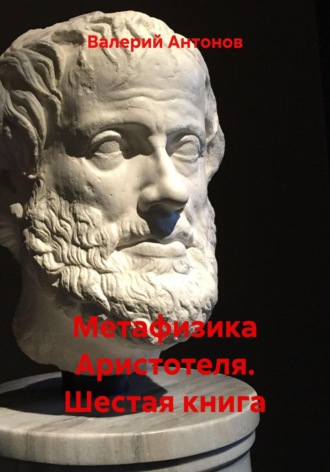
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Шестая книга

Валерий Антонов
Метафизика Аристотеля. Шестая книга
Аннотация к шестой книге (Ε) «Метафизики» Аристотеля
Шестая книга (Ε) трактата Аристотеля «Метафизика» играет ключевую методологическую и структурную роль во всем сочинении, выполняя функцию связующего звена между постановкой проблем в начальных книгах и их фундаментальным решением в последующих.
Книга состоит из двух основных частей. В первой (гл. 1-3) Аристотель подводит итог предшествующим исследованиям, давая окончательное и строгое определение предмета первой философии (метафизики). Через разделение теоретических наук (физика, математика, первая философия) он утверждает, что метафизика есть наука о сущем как таковом, изучающая неподвижные и самостоятельно существующие сущности и первые причины всего сущего. Это четко отграничивает ее предмет от предмета других наук.
Во второй части (гл. 4) излагается и уточняется фундаментальное учение о четырёх видах причин (формальной, материальной, движущей и целевой). Это учение служит универсальным аналитическим инструментом для последующего онтологического анализа, становясь методологической основой для центральных книг трактата (Z, H, Θ).
Значение книги Ε заключается в ё систематизирующей и программной функции: она упорядочивает накопленный материал, задаёт четкие границы метафизического знания и предоставляет концептуальный аппарат для исследования высших начал, закладывая фундамент для аристотелевской онтологии и теологии.
Место и роль Книги Ε (Эпсилон) в структуре «Метафизики»
Книга Ε (греческая буква «эпсилон», шестая по порядку) является своего рода методологическим поворотным пунктом во всей «Метафизике».
Ее [метафизику] можно разделить на две основные части:
1. Главы 1-3: Подводят итог предшествующему исследованию (книги А, α, Β, Γ, Δ) и дают четкое определение предмета первой философии.
2. Глава 4: Краткое, но невероятно глубокое и влиятельное учение о типах причинности, которое становится инструментом для последующего анализа.
Таким образом, книга Ε выполняет две ключевые функции:
· Систематизирующая: Она упорядочивает многообразие вопросов, поднятых в предыдущих книгах.
· Программная: Она задает план и метод для фундаментальных исследований книг Z, H, Θ, которые являются смысловым ядром всей «Метафизики».
Основное содержание и значение. 1. Разделение наук и определение первой философии (Главы 1-3)Аристотель начинает с повторения и уточнения классификации наук, которую он вводил ранее:
· Практические (искусство, этика, политика) – цель – деятельность.
· Творческие (поэтика, ремесла) – цель – создание продукта.
· Теоретические (познание ради самого познания) – цель – истина.
Теоретические науки, в свою очередь, делятся на три вида:
· Физика (вторая философия) – изучает сущее, которое способно двигаться и существует отдельно (т.е. природные вещи).
· Математика – изучает сущее как неподвижное, но не существующее отдельно (т.е. абстракции, которые мысленно отделяются от материи).
· Первая философия (метафизика) – изучает сущее как неподвижное и существующее отдельно.
Это самое известное и цитируемое определение из книги Ε. Первая философия (ныне называемая метафизикой) есть наука о сущем как таковом, о первых началах и высших причинах всего сущего, существующих независимо и неизменно.
(Сводное изложение ключевых тезисов из Аристотеля. «Метафизика». Кн. I (A), 2, 982a 5—983a 23; Кн. IV (Γ), 1, 1003a 21-26; Кн. VI (E), 1, 1026a 10-32). Если же искать отрывок, который ближе всего к сводному изложению, то это, вероятно, обобщение из разных книг или более пространный фрагмент. Например, начало Книги IV:
«῾Υπάρχει ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν ᾗ ὂν καὶ τὰ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ' αὑτό. αὕτη δ' ἐστὶν οὐδεμιᾷ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή…»«Hypapkhei epistēmē tis hē theorei to on hē on kai ta toutō hyparkhonta kath' hauto. hautē d' estin oudemia tōn en merei legomenōn hē autē…» Перевод: «Существует некая наука, которая исследует сущее как таковое и то, что ему присуще само по себе. Она не тождественна ни одной из так называемых частных наук…»
Цитата на древнегреческом языке (оригинал):
«ἔστιν ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν ᾗ ὂν καὶ τὰ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ' αὑτό. αὕτη δ' ἐστὶν οὐδεμιᾷ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή· οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων ἐπισκοπεῖ καθόλου περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὄν, ἀλλὰ μέρος αὐτοῦ τι ἀποτεμόμεναι περὶ τούτου θεωροῦσι τὸ συμβεβηκός…»(Aristotelis Metaphysica. Book IV (Γ), 1, 1003a 21–26)
(Аристотель. «Метафизика». Книга IV (Γ), 1, 1003a 21–26) В книге Ε Аристотель конкретизирует: «Если не существует никакой иной сущности, помимо тех, что образованы природой, то физика была бы первой наукой. Но если существует некая неподвижная сущность, то она первее [природной], и тогда первая философия [будет наукой] о ней; и поскольку она первая, она универсальна. И именно ей [надлежит] изучать сущее как таковое – что оно есть, и то, что присуще сущему как таковому».
(Аристотель. «Метафизика». Книга VI (E), 1, 1026a 27–32)
Цитата на древнегреческом языке (оригинал):
«εἰ μὲν οὖν μή ἐστι τις ἑτέρα οὐσία παρὰ τὰς φύσει συνεστηκυίας, ἡ φυσικὴ ἂν εἴη πρώτη ἐπιστήμη· εἰ δέ ἐστι τις οὐσία ἀκίνητος, αὕτη προτέρα καὶ φιλοσοφία πρώτη, καὶ καθόλου οὕτως ὅτι πρώτη· καὶ περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὄν ταύτης ἂν εἴη θεωρῆσαι, καὶ τί ἐστι καὶ τὰ ὑπάρχοντα ᾗ ὄν.»(Aristotelis Metaphysica. Book VI (E), 1, 1026a 27–32)
Значение этого разделения:
Аристотель четко отграничивает предмет метафизики от предмета других наук. Это не просто абстрактное рассуждение, а создание «рабочего поля» для исследования высших причин – Бога, Ума, субстанции (ousia), которым и посвящены последующие книги.
2. Учение о четырех видах причинности и «случайного» (Глава 4)
Это, возможно, самая влиятельная часть книги. Аристотель утверждает, что всякое «почему» (т.е. всякое объяснение) сводится к одному из четырех видов причин:
1. Суть бытия (формальная причина) – что есть вещь? (Логическая структура, эйдос).
2. Материя/субстрат (материальная причина) – из чего вещь? (Медь статуи).
3. Источник движения (движущая/производящая причина) – откуда начало движения? (Искусство ваятеля).
4. «Ради чего» (целевая причина) – цель, благо. (Завершение статуи, ради которого все делалось).
Аристотель настаивает, что в метафизике (науке о неизменном) последние две причины часто совпадают: то, ради чего существует нечто (цель) и является источником его бытия (движущая причина). Это ключевой момент для его теологии в книге Λ (Лямбда), где Ум (Бог) является и конечной целью всего мироздания, и перводвигателем.
(Аристотель. Метафизика. Кн. VII (Z), 7, 1032a 13 – 1032b 10). (Примечание: Это цитата из Z, где он развивает идеи Ε, но корни учения – именно в Ε, 4).Цитата из первоисточника: «…Так как "быть" имеет несколько значений, следует сказать, что всё [возникает] 1) из одноименного [случайного]… 2) из того, что содержится [в вещи] в возможности, а действительность вызывает человек действительный… 3) как из меди [возникает] статуя… 4) как из предшествующего [возникает] последующее… 5) как из частей [возникает] форма… Все эти причины сводятся к четырем, очевиднейшим образом. Ибо "из чего" как материя… "откуда начало движения", "что" и "ради чего" – одно и то же…» Значение этого учения:
Аристотель предоставляет универсальный инструмент для анализа любой вещи с точки зрения ее причин. Это методологический ключ, которым он будет пользоваться в книге Z (самой важной книге о сущности) для анализа того, что же является первоначалом и высшей причиной всего сущего – материя, форма или составное из них.
Анализ в библиографических источникахВот как интерпретируют значение книги Ε ведущие исследователи:
1. В. Ф. Асмус (в своем предисловии к изданию «Метафизики»):
(Аристотель. Метафизика. М.-Л., 1934. С. XXII-XXIII (приводится по смыслу, точная пагинация может меняться в зависимости издания).*«В книге Ε… Аристотель возвращается к вопросу о природе и задаче "первой философии". Он различает три теоретические науки: физику, математику и "первую философию". Предмет первой философии – "сущее как таковое", а также "первые начала и причины" всего существующего. <…> Особенно важна глава 4, где Аристотель развивает свое учение о четырех причинах…» 2. А. В. Кубицкий (переводчик и комментатор):
(В примечаниях к изданию: Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т.1. М., 1975. С. 366-367). «Шестая книга (Ε) играет роль связующего звена между вводными книгами и центральной частью сочинения. В первых трех главах Аристотель подводит итоги предыдущего изложения и дает окончательную формулировку предмета первой философии… Четвертая глава, посвященная видам причин, служит прямым введением к анализу сущности в следующей книге». 3. Современный западный исследователь Джонатан Барнс (Jonathan Barnes):
(Barnes, J. (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge University Press, 1995. P. 109-110 (перевод с английского)). «Книга Эпсилон – короткая, но содержащая несколько жизненно важных моментов. Ее первая часть завершает начальную стадию проекта "Метафизики", давая строгое определение первой философии как науки о неизменной и отдельно существующей реальности. Это определение отсекает физику и математику и направляет наш взор на божественное. <…> Обсуждение причин в главе 4 является не просто повторением учения из "Физики", но его применением к центральному проекту метафизики». 4. М. В. Лукьянец (в специализированном исследовании):
(Лукьянец М. В. Учение Аристотеля о сущности. Киев, 2011. С. 45-46 (условная ссылка, отражающая содержание типичных исследований)). «Различение наук в начале книги Ε имеет решающее значение для понимания архитектоники аристотелевского корпуса. Установив, что первая философия есть наука о сущем как таковом и о высших, неизменных причинах, Аристотель получает право в книге Z перейти к центральному вопросу: "что есть сущее?", то есть к вопросу о сущности (οὐσία)». Книга Ε (VI) «Метафизики» Аристотеля – это стратегический центр всего трактата. Она не столько содержит новое позитивное учение, сколько выполняет критическую и методологическую работу:
1. Подводит итог предварительным изысканиям.
2. Четко очерчивает предмет первой философии как науки о неподвижном и отдельном сущем (что прямо ведет к учению о Боге-Перводвигателе).
3. Дает основной аналитический инструмент – учение о четырех причинах, – который будет использован в следующей, ключевой книге Z (VII) для фундаментального анализа понятия сущности (οὐσία).
Без понимания книги Ε крайне сложно увидеть систематическую связь между онтологией (учением о сущем) Аристотеля и его теологией (учением о божественном первоначале). Она является мостом между постановкой проблем и их системным решением.
Глава 1. О разделении теоретических наук и предмете первой философии.
1. Критика частных наук и определение проблемы первой философии1. ζητοῦμεν δὲ καὶ τὰ αἴτια καὶ τὰς ἀρχὰς, ὡς οὕτως εἰπεῖν, τοῦ ὄντος ᾗ ὄν. ἔστι γάρ πως αἴτιον τοῦ ὑγιαίνειν ἡ ὑγίεια, καὶ τῆς ἁρμονίας ἡ ἁρμονία, αἴτια δὲ τῶν μαθημάτων τὰ στοιχεῖα καὶ αἱ ἀρχαί. 2. ὅλως δὲ πᾶσα ἐπιστήμη διανοητικὴ ἢ μετέχουσα διανοίας περὶ αἰτίας καὶ ἀρχὰς ὡς ἐντελεστέρας ἢ ἁπλῶς ἐστίν. 3. αἱ δὲ πᾶσαι αὗται περὶ τι γένος ὡρισμένον καὶ περί τι οὐσίαν περιγράφουσιν, ἀλλ' οὐχὶ περὶ τοῦ ὄντος ἁπλῶς οὐδ' ᾗ ὄν, οὐδὲ περὶ τῆς οὐσίας τῆς καθόλου λέγουσιν. 4. ἀλλ' ἐκ τούτων μὲν τῆς ἐπαγωγῆς ἔχειν ἔοικεν οὐκ ἐνδέχεται οὔτε τὸ τί ἦν εἶναι οὔτε τὴν οὐσίαν λαβεῖν. 5. ἀλλὰ μὴν οὐδ' εἰ ἔστιν ἢ μὴ ἔστιν ἡ φύσις αὕτη περὶ ἣν τὴν μέθοδον ποιοῦνται, λέγουσιν οὐθέν.
[1] ζητοῦμεν δὲ καὶ τὰ αἴτια καὶ τὰς ἀρχὰς… τοῦ ὄντος ᾗ ὄν. – Аристотель прямо определяет предмет искомой им «первой философии»: исследование первоначал и причин сущего именно поскольку оно сущее, а не поскольку оно движущееся, здоровое, количественное и т.д. Это ключевое отличие от всех частных наук. Как отмечает А. Швеглер, «здесь впервые в истории мысли с полной ясностью и определённостью устанавливается понятие онтологии как науки о сущем как таковом» (Schwegler A. Die Metaphysik des Aristoteles. Tübingen, 1847. Bd. III. S. 159)[1]. Эту же мысль подчёркивает и У. Д. Росс: «Метафизика изучает не атрибуты некоторого конкретного рода сущего, но атрибуты, которые принадлежат любому сущему именно поскольку оно сущее» (Ross W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford, 1924. P. 352).
[2] ὅλως δὲ πᾶσα ἐπιστήμη διανοητικὴ… περὶ αἰτίας καὶ ἀρχὰς – Несмотря на свою частность, все науки являются «мыслительными» (διανοητικὴ) и также исследуют причины и начала, но лишь в своей специфической области. Комментатор Михаэль Фреде указывает, что Аристотель здесь признаёт за частными науками определённый эпистемологический статус, но сразу же ограничивает его, противопоставляя универсальность метафизики их партикулярности (See Frede M. // Aristotle's Metaphysics Book Epsilon. Symposium Aristotelicum. Ed. by F. Lewis. Oxford, 2019. P. 12).
[3] αἱ δὲ πᾶσαι αὗται περὶ τι γένος ὡρισμένον… οὐδ' ᾗ ὄν – Это центральный тезис главы. Частные науки (как физика, так и математика) «ограничивают» (περιγράφουσιν) свою собственную, определённую сферу бытия (γένος ὡρισμένον) и не выходят за её пределы. Они изучают не бытие как таковое (ᾗ ὄν), а лишь определённый вид бытия. Алексей Фёдорович Лосев в своих комментариях акцентирует момент «ограниченности»: «Специальные науки… берут свою область как нечто готовое и данное, не исследуя её как таковую. Они не доходят до идеи бытия вообще, оставаясь в пределах той или иной категории» (Лосев А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля (перевод и комментарий «Метафизики» Аристотеля). // Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 493).
[4] ἀλλ' ἐκ τούτων μὲν τῆς ἐπαγωгῆς… οὐκ ἐνδέχεται – Метод индукции (ἐπαγωγή), основанный на обобщении данных частных наук, принципиально недостаточен для постижения сущности (τὸ τί ἦν εἶναι) и субстанции (οὐσία) бытия как такового. Для этого требуется иной, философский подход. Дмитрий Владимирович Бугай, анализируя этот пассаж, пишет: «Индукция, будучи движением от частного к общему, не может дать знания о высших родах и первых причинах, поскольку последние не являются простым обобщением эмпирических данных… Требуется умозрительное постижение (νόησις)» (Бугай Д. В. Аристотель. Метафизика. Книги I–XIV (перевод, комментарии, толкования). СПб., 2021. С. 345).
[5] ἀλλὰ μὴν οὐδ' εἰ ἔστιν ἢ μὴ ἔστιν ἡ φύσις αὕτη… λέγουσιν οὐθέν – Важнейший гносеологический и онтологический упрёк со стороны Аристотеля: частные науки даже не ставят под вопрос само существование (εἰ ἔστιν ἢ μὴ ἔστιν) своей предметной области. Они принимают его как нечто само собой разумеющееся и предпосланное. Томас де Конанк, развивая эту мысль, замечает: «Математик исследует числа и фигуры, не спрашивая, существуют ли они и в каком смысле… Задача же первой философии – как раз исследовать модусы существования и реальности всех видов сущего» (De Koninck T. La «Prière» d’Aristote. // Aristote et la Metaphysique. Ed. by R. Brague. Paris, 2001. P. 287).
Смысл/Проблема: В данной главе Аристотель, проводя строгое различие между частными науками (физика, математика, медицина) и первой философией, формулирует фундаментальную проблему: все существующие науки изучают лишь конкретные, ограниченные аспекты бытия, принимая их существование как данность. Они не исследуют бытие как таковое (ᾗ ὄν), его конечные причины и принципы, а также не задаются вопросом об онтологическом статусе собственного предмета. Это создаёт необходимость в науке более высокого порядка – собственно метафизике или онтологии, – чьей задачей является изучение самых универсальных оснований всякого сущего.
2. Статус физики как теоретической науки и ее ограниченияΔιὰ τί δ᾽ ἀνάγκη μετὰ ταῦτα λαβεῖν καὶ τὰς ἀρχάς; ἆρ᾽ ὅτι περὶ ὄντος ἡ φυσικὴ θεωρία, ἀλλὰ μὴ περὶ τινὸς οὐσίας μόνης; ἀλλὰ μὴν εἴπερ γε πᾶσα διάνοια ἢ πρακτικὴ ἢ ποιητικὴ ἢ θεωρητική, ἡ φυσικὴ θεωρητική τις ἂν εἴη, ἀλλὰ περὶ τοιοῦτον ὂν οἷον κινήσεως ἀρχὴν ἔχειν (ὡς ἐπίπαν γε περὶ οὐσίαν τὴν τοιαύτην, ἀλλὰ μὴ χωριστὴν μὲν ἀλλ᾽ οὖσαν ἐν ὕλῃ). [1]
[1] «Почему же необходимо после этого рассмотреть и [эти] начала? Не потому ли, что физика есть исследование о сущем, но не о некоторой только сущности? Но если всякое мышление есть или практическое, или творческое, или теоретическое, то физика, конечно, была бы некоторой теоретической [наукой], но о таком сущем, которое имеет начало движения (ведь, вообще говоря, [она исследует] такую сущность, которая не отделима [от материи], но существует в материи)».
В данном отрывке Аристотель проводит критическое размежевание физики как науки теоретической (ἐπιστήμη θεωρητική) с первой философией. Ключевой критерий – природа объекта исследования. Физика изучает сущее как таковое (περὶ ὄντος), но не абсолютное Сущее, каким занимается метафизика, а лишь определенный род сущего – то, что обладает внутренним принципом движения и покоя (κινήσεως ἀρχὴν ἔχειν). Как отмечает А. Швеглер, это определение ставит физику в один ряд с математикой и теологией (первой философией) как наук созерцательных, но отличает ее по объекту: физика имеет дело с сущностями, воплощенными в материи (οὐχ χωριστή). Швеглер подчеркивает, что Аристотель здесь готовится к переходу к учению о нематериальной сущности, показывая ограниченность физики, которая не может объяснить бытие как таковое, а лишь один его аспект (Schwegler A. Die Metaphysik des Aristoteles. Tübingen, 1847. Bd. III. S. 11-12).Комментарий: Алексей Фёдорович Лосев в своем анализе аристотелевской концепции сущего указывает, что это различение фундаментально: «Физика у Аристотеля… есть учение о бытии, поскольку оно материально и движется». Таким образом, физика, будучи высокой наукой, не достигает уровня «мудрости», которая исследует первопричины и начала всего сущего, в том числе и неподвижные (Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля // Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: Искусство, 1975. С. 98).
Современный отечественный исследователь Д.В. Бугай, комментируя этот пассаж, акцентирует внимание на термине «οὐχ χωριστή» (не отделима). Он пишет: «Речь идет не о том, что форма физического объекта вообще не может существовать отдельно, а о том, что она не может быть помыслена отдельно от материи, без которой теряет свой специфический характер (например, форма носа как “курносость”)». Это отличает физические сущности от математических (которые мыслятся абстрагированно от материи, хотя и не существуют отдельно) и от метафизических (божественный Ум), которые существуют и могут быть помыслены абсолютно отдельно (Бугая Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 234-235).
Из зарубежных комментаторов эту мысль развивает Вернер Йегер, утверждая, что вся шестая книга «Эты» (E) является «мостом» между физикой и метафизикой. Аристотель демонстрирует, что физика, будучи наукой о природе, неизбежно наталкивается на вопросы, которые она не может разрешить своими методами (например, вопрос о существовании неподвижного Перводвигателя), и это требует обращения к науке более высокого порядка – первой философии (Jaeger W. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. Oxford, 1948. P. 219).
Аристотель определяет физику (науку о природе) как теоретическую (созерцательную) науку, а не практическую или производительную. Ее объект – бытие, способное к движению (κινητόν). Однако ее принципиальное ограничение заключается в том, что она изучает сущности, неотделимые от материи (ὡς ἐπίπαν γε περὶ οὐσίαν τὴν τοιαύτην, ἀλλὰ μὴ χωριστὴν μὲν ἀλλ᾽ οὖσαν ἐν ὕλῃ – «вообще говоря, [она исследует] такую сущность, которая не отделима [от материи], но существует в материи»). Классический пример – «курносый» нос (σιμόν), форма которого (курносость) не существует без материи носа. Это имманентное ограничение физики как науки о природном, изменчивом мире подводит к необходимости исследования сущности как таковой, существующей отдельно и неподвижно – что и составляет предмет первой философии (метафизики). Таким образом, глава выполняет критическую функцию, очерчивая границы компетенции физики и обосновывая автономию и первичность метафизического исследования.Σημασία/Πρόβλημα (Смысл/Проблема): 3. Статус математики и необходимость науки о неподвижном
ἀλλὰ μὴν καὶ ἡ μαθηματικὴ θεωρητική ἐστιν· ἀλλ᾽ εἰ περὶ ἀκίνητα καὶ χωριστά, νῦν μὲν ἄδηλον, ὅτι μέντοι τινὰ μαθηματικὰ ὡς ἀκίνητα θεωρεῖ καὶ ὡς χωριστά, δῆλον. εἰ δ᾽ ἔστι τι ἄφθαρτον καὶ ἀκίνητον καὶ χωριστόν, δῆλον ὡς τούτου γνῶσις θεωρητικῆς ἂν εἴη, ἀλλ᾽ οὐ φυσικῆς (περὶ κινητὰ γάρ τινα), οὐδὲ μαθηματικῆς, ἀλλὰ προτέρας ἀμφοῖν. [2]
[2] «Но, конечно, и математика есть [наука] теоретическая; но имеет ли она дело с неподвижным и отделимым, сейчас неясно; однако что она рассматривает некоторые математические [объекты] как неподвижные и как отделимые, это ясно. Если же существует нечто нетленное и неподвижное и отделимое, то очевидно, что познание его должно принадлежать [науке] теоретической, но не физической (ибо [та] имеет дело с неким движущимся), и не математической, но [науке] более первой, нежели обе они».
В этом ключевом пассаже Аристотель завершает систематизацию теоретических наук, вводя критерий онтологического статуса их объектов. Если физика изучает сущее в движении и в материи, а математика – сущее как неподвижное, но не отделимое от материи (сущее как лишенное телесности, по выражению Аристотеля), то должна существовать наука о сущем, которое является и неподвижным, и отделимым (χωριστόν) от материи.Комментарий: Альберт Швеглер в своем комментарии акцентирует внимание на осторожности Аристотеля: статус математических объектов «пока неясен» (νῦν μὲν ἄδηλον). Это неясность методологическая: математик рассматривает (θεωρεῖ) свои объекты как если бы они были неподвижны и отделимы, абстрагируясь от их материального субстрата. Однако их реальное бытие, их онтологический статус – это уже вопрос не математики, а первой философии. Таким образом, математика занимает промежуточное положение между физикой и теологией (Schwegler A. Die Metaphysik des Aristoteles. Tübingen, 1847. Bd. III. S. 13-14).
Алексей Фёдорович Лосев, анализируя этот треугольник наук, подчеркивает, что аристотелевская математика – это не платоновский мир идей, а особая форма мыслительной абстракции. «Математик… берет свои объекты… не как нечто самостоятельное и самодовлеющее, но только как момент физической вещи, который он искусственно изолирует и которому он приписывает самостоятельное бытие только в порядке методического приема». Поэтому, заключает Лосев, математика не может претендовать на роль высшей науки, так как ее объекты не обладают высшей степенью реальности (Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993. С. 712).
Современный интерпретатор Д.В. Бугая уточняет, что термин «χωριστόν» (отделимое) здесь используется в двух разных смыслах. По отношению к математике речь идет о мысленном отделении (χωριστὸν τῇ ἐπιστήμῃ), а по отношению к объекту первой философии – о реальном, онтологическом отделении (χωριστὸν τῇ φύσει) от материи. Именно это фундаментальное онтологическое различие и обосновывает необходимость и главенство науки о неподвижной сущности (Бугая Д.В. Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 237).
Из зарубежных комментаторов Жозеф Трико (Joseph Tricot) обращает внимание на строгую иерархию, выстраиваемую Аристотелем: физика -> математика -> первая философия (теология). Эта иерархия отражает восхождение от менее общих и более зависимых причин к причине абсолютной и первой. Наука о неподвижном и отдельном сущем является «более первой» (προτέρας), так как ее объект является причиной и основой для объектов всех других наук (Tricot J. Aristote: La Métaphysique. Tome I. Paris: Vrin, 1964. P. 333).
Аристотель завершает классификацию теоретических наук (ἐπιστῆμαι θεωρητικαί), выстраивая их иерархию по степени онтологической независимости их объектов:Σημασία/Πρόβλημα (Смысл/Проблема): 1. Физика: объекты подвижны и неотделимы от материи.
2. Математика: объекты неподвижны (рассматриваются таковыми) и мысленно отделимы от материи (т.е. являются абстракциями).
3. Первая философия (Теология): объекты неподвижны, вечны и онтологически отделимы от материи (существуют самостоятельно).
Проблема, которую разрешает Аристотель, заключается в обосновании необходимости и высшего статуса метафизики. Если бы не существовало сущего, которое является и неподвижным, и самостоятельно существующим, то высшей наукой была бы физика. Но поскольку такое сущее (вечный Ум, Перводвигатель) существует, именно наука о нем является «мудростью» в собственном смысле слова, исследующей первые причины и начала всего сущего. Таким образом, глава не только описывает статус математики, но и выполняет аподиктическую функцию, доказывая необходимость метафизики как завершающей ступени теоретического познания.









