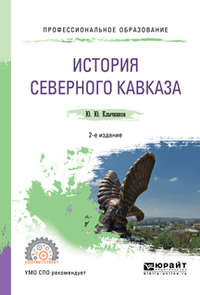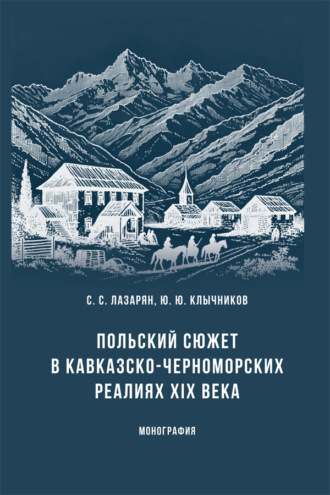
Полная версия
Польский сюжет в кавказско-черноморских реалиях XIX века
При данных обстоятельствах иногда случался парадокс по причине неоднозначного восприятия горцами перспективы быть проданными на чужбину. Для многих это был шанс сделать карьеру или повысить свой статус, особенно если речь шла о женщинах, предназначенных для гаремов знатных турок. Об этой особенности местных реалий не раз писали современники, отмечавшие, что «…женщина, которая провела свою молодость в гареме богатого перса или турка, возвратясь в свою родную страну, одетая во все свои наряды, никогда не перестает возбуждать в памяти ее юных подруг желание последовать ее примеру…»[111].
Из-за действий России «вследствие ограниченной торговли между жителями Кавказа и их старыми друзьями, турками и персами, цена женщин значительно упала; те родители, у которых полный дом девочек, оплакивают это с таким отчаянием, как купец грустит об оптовом магазине, полном непроданных товаров»[112]. Потому, когда происходило освобождение невольников из рук контрабандистов, часть горянок, отвозимых на продажу, вместо слов благодарности набрасывались в гневе на русских моряков с кулаками и даже готовы были от досады покончить с собой.
Российские власти освобождали рабов не только во время проведения военных экспедиций. Широко практиковался обмен и выкуп несчастных, причем нередко шли на неэквивалентный обмен, лишь бы добиться результата. Впрочем, усилия чиновников были не столь эффективны, как частная инициатива. Как правило, действовать старались через посредников, которые пользовались доверием обеих сторон. Очень часто к этой деятельности подключали армянских купцов, которые имели обширные связи по обе стороны Линии[113]. За такую деятельность они нередко награждались медалями, которые весьма ценились между ними[114].
Помощь и защиту беглецам, которые смогли сами вырваться из плена, оказывали независимо от их этнической и конфессиональной принадлежности. Об этом знали и стремились укрыться в российских пределах невольники, захваченные не только на территории самой империи, но и в сопредельных странах. Еще до присоединения Грузии, которая немало претерпела от горских набегов, ее подданные, оказавшиеся в рабстве, пробирались к русским станицам и укреплениям. Так нашел спасение будущий автор поэмы «Бедствия Грузии» Давид Гурамишвили, захваченный примерно в 1728 г. партией горских «хищников», но сумевший бежать и после тяжелейших испытаний вышедший к Тереку. О перенесенных злоключениях он позднее рассказал в стихах, посвященных нелегкой судьбе своей Отчизны[115].
Судьбы большинства пленников были мало известны широкой общественности. О них знали лишь близкие и те, кто по долгу службы обязан был заниматься данной проблемой. Но в ряде случаев похищения получали широкий резонанс. Так стало известно о захвате в плен княгинь А.И. Чавчавадзе и В.И. Орбелиани, которые стали жертвой вторжения отрядов Шамиля в Грузию. Вопрос об их освобождении обсуждался на самом высоком уровне. Чтобы освободить знатных невольников их обменяли на сына Шамиля – Джамалуддина, который в свое время был выдан российским властям в качестве заложника-аманата. Другим жертвам набега горцев повезло меньше, и они остались в плену[116].
После формального присоединения Кавказа к Российской империи практика работорговли хотя и была ограничена, но полностью изжить ее не удавалось. На неподконтрольных территориях по-прежнему томились сотни пленных, которых горцы, пользуясь услугами контрабандистов, пытались переправить в Турцию[117].
Зная об этом, контрабандисты стремились всячески скрывать информацию о том, какой товар они вывозят с кавказского побережья. Нередко, видя, что не успевают скрыться от преследования, они избавлялись от пленников и топили их в море[118]. Ни военные меры, ни дипломатические усилия России не могли пресечь эту деятельность, которая имела немало покровителей и тайных помощников среди знатных османских сановников[119]. Некоторые из них сами организовывали каналы по доставке контрабандного товара и занимались продажей людей.
Активно торговали рабами выходцы с Северного Кавказа, которые перебрались в Порту, но сохранили обширные связи среди соплеменников. Они готовы были нести любые издержки, вызванные русской блокадой, т. к. получаемая прибыль с лихвой перекрывали возможные потери груза. Если на кавказском побережье можно было приобрести женщину за 200–800 рублей, то на рынках Турции она уже стоила до 1500 рублей. По данным российских источников на 1837 г., «из Черкесии вывозят ежегодно до 4000 невольников и невольниц в разные места Турции»[120]. Вплоть до завершения военно-политического покорения региона и массового исхода горцев за пределы империи справиться с этой проблемой российские власти не сумели.
К началу 60-х гг. XIX в. кризис в русско-северокавказских отношениях в немалой степени удалось преодолеть, хотя его рецидивы и продолжали оказывать влияние на ситуацию в крае. Это стоило всем сторонам противостояния значительных демографических и экономических потерь, но – как ни парадоксально – стимулировало процесс межкультурной коммуникации, поскольку с выбыванием наиболее пассионарных приверженцев старины, разрушались социально-культурные крепости и ослаблялась иммунная устойчивость, в целом характерная для местных обществ. Последовавшая вслед за прекращением военных действий череда реформ стимулировала быстрое социально-экономическое развитие Северного Кавказа.
Оборотной стороной тотального обновленчества стал «культурный шок», который испытали местные народы Северного Кавказа, вырванные из привычного, традиционного мироустройства с его архаичным эгалитаризмом. В условиях региона, где еще недавно велись активные военные действия, это вылилось в рост уголовного насилия, которое долго дестабилизировало местную жизнь
Целый ряд причин препятствовал внутриэтнической консолидации северокавказского региона. Господствовавшие там «патриархально-родовые общественные институты не были предназначены для решения «общенациональных» задач. Они обеспечивали единство, управляемость и гармонию на микроуровне общины и ее разновидностей. В более крупных социумах (даже этнически гомогенных) эти архаические механизмы в качестве единого организующего начала не действовали»[121]. Для этого требовались государственно-политические институты, которые предстояло внедрить в местную почву Российской империи.
1.3. Кавказ в 30–50-х годах XIX столетия как средство борьбы с Россией
Кавказ, прежде всего, для Европы или Оттоманской Порты был средством и местом антироссийского влияния, сосредоточием антироссийской деятельности, орудием сокрушения ее государственности. Этому в немалой степени способствовало не только активное неприятие присутствия России в регионе со стороны местных горских обществ, но и то, что Кавказ сделался местом агрегации и аккумуляции многих беспокойных элементов: ссыльных преступников, старообрядцев, беспутных чиновников и оскандалившихся офицеров, непослушных воле помещиков крестьян, отданных в рекруты, которыми пополнялись батальоны Отдельного Кавказского корпуса (ОКК), беглецов всех мастей, разнородных злоумышленников, пройдох и авантюристов. Они, хотя и не представляли там большинства, но занимали заметное место в имперском сообществе, утверждавшемся в кавказском крае.
Недруги России ожидали, что, например, «непокорные поляки, принужденные служить в русской армии, или уроженцы России, признанные виновными в том, что придерживаются мыслей, неодобряемых правительством», и призванные в Кавказскую армию, что для них означало ссылку, должны были в таких обстоятельствах превратиться «в самых непримиримых врагов России»[122]. Сонм этих потенциальных недругов Российской империи могли пополнить дезертиры из казаков, солдат или поляков, искавших убежища среди горцев.
В британских политических или околополитических кругах (журналисты, публицисты) видели Кавказ острым и опасным оружием против России[123]. Они даже нашли подходивших для использования этого оружия людей. Там считали, что после 1831 г. многие поляки, странствовавшие без родины, без дела в Англии, Франции и других странах Европы, «кормясь жалкой пищей, предоставляемой из великодушия, несмотря на то, что это люди, отмеченные талантом и храбростью, ни один, имеющий высокое положение, все еще не нашел свой путь на Кавказ – пристанище исключительно пригодное для сражения против их давнего и непримиримого врага»[124]. Англичане надеялись без особенно больших затрат и без принесения жертв со стороны своих подданных нанести максимальный вред России, даже сокрушить ее, используя против русских озлобленных поляков.
Э. Спенсер подчеркивал, что если бы малое число этих людей приехало на Кавказ и добавило свои знания, опыт и военную тактику к мужеству и непримиримости черкесов, то «через несколько лет поляки могли бы перенести войну в самое сердце России, ослабить возможности ее правительства и, вероятно, в конечном счете, преуспеть в освобождении своей страны»[125]. Многим в британском политикуме этого очень хотелось, а потому они выходили в своих мечтаниях за пределы существовавших реалий.
Англичане подталкивали поляков думать и надеяться, что «одержав однажды победу, они могли обрести в качестве союзников донских и кубанских казаков, многие из которых признают общее свое происхождение с поляками»[126]. Малороссы, по мнению пристрастных наблюдателей, бывшие костяком и социальной базой кубанского казачества, мечтали о восстановлении Запорожской Сечи[127]. Они были уверены, что «казаки колеблются в своем верноподданничестве»[128] российской монархии.
Англичане также назначили поляков, казаков быть оружием против России, исходя из опыта отслеживания перебежчиков и дезертиров из ОКК, которые составляли половину общей численности беглецов, а также и черкесов, отмечая степень их непримиримости и ненависти к русским, существовавших и поддерживаемых в черкесских горах. Английская разведка, опираясь на сведения, подаваемые британскими агентами, находившимися в разное время среди черкесов (Э. Спенсер {Edmund Spencer}, Дж. Белл {James Bell}, Д. Уркварт {David Urquhart}, Дж. Лонгворт {John Longworth}, Найт {Knight}, Стюарт {Stuart}), подчеркивала, что случаи дезертирства происходили гораздо чаще и были гораздо многочисленнее, чем российские власти готовы то были признать. «Большинство дезертиров составляли рядовые солдаты и казаки, бежавшие от правосудия или притеснений со стороны командиров. Некоторые просто предпочитали несколько лет на воле двадцати пяти годам тяжелой военной службе»[129], а часть казаков или поляков, обращались в ислам, женились на местных горских женщинах и принимали активное участие в набегах на российское пограничье. Так, например, поступил бежавший к адыгам в 1841 г. казачий офицер Семен Атарщиков, сделавшийся одним из опаснейших злодеев, прятавшихся в горах[130].
Кавказ был удобным средством разведки для англичан, который они стремились задействовать в полной мере. Британский разведчик Артур Конолли {Arthur Conolly} в 1829 г. посещал Кавказ проездом из Москвы, оценивая все, что ему удавалось увидеть в Кавказской армии: «офицеров и солдат, их вооружение, выучку, мотивацию и моральные качества»[131]. В 1836 г. два английских агента появились среди натухайцев, приглашая их написать просьбу о помощи на имя английского короля и послать в Европу своих депутатов. Англичане прибыли из Трапезунда на турецком судне и сошли на кавказский берег в урочище Вардане[132]. На Кавказе англичане «развернули новый фронт шпионской войны», чтобы иметь возможность «ударить по русским тылам чужими руками, чтобы не дать России закрепиться в Азии… потому что Кавказ станет плацдармом для русской атаки на Индию»[133].
Помимо сухопутной разведки, британские агенты проводили ее и с моря. У российских берегов были замечены шхуна «The Lord Charles Spencer», под управлением шкипера Вильяма Мильварда {William Milward}, а также пароход «Плутония» – капитан Дринкватер {Drinkwater}[134], занимавшиеся промерами морского дна на рейдах крымских портов. Другая английская шхуна «Vizard» под управлением шкипера Лови {Lovey} искала и поднимала в Наваринской бухте потопленные в 1827 г. орудия, чтобы впоследствии отвезти их на Кавказ. Шхуна принадлежала Д. Уркварту в совокупности с другими лицами.
Д. Уркварт, сделав для черкесов знамя независимости собственного изобретения, собирался с ним прибыть и вручить его горцам для поддержки всеобщего восстания. Этот человек обладал одной отличительной чертой, так высоко ценимой тогдашним шефом английской секретной службы Джереми Бентхемом {Jeremy Bentham}: «абсолютной, глубокой и бесповоротной неприязнью к России»[135]. Повсеместное и постоянное противостояние России сделалось его навязчивой идеей. Он не переставал заявлять, что, «если ничего не будет противопоставлено этой злокозненной мощи, из российского лона вскоре возникнут политические катаклизмы, которые разорят Европу»[136].
Уполномоченный британской короной Д. Уркварт совершил несколько секретных миссий, прочесывая «географическое поле в центре мощного соперничества, противопоставляющего Великобританию Российской империи»[137]. Прожив определенное время в Константинополе, одном из центров антироссийской европейской и турецкой агентуры, он сделался туркофилом. Д. Уркварт, которого сами «коронованные головы» называли между собой «больным европейцем», в своих сочинениях и выступлениях в британской прессе «создает образ Турции как примера организации, цивилизации, терпимости и демократии»[138]. Сделавшись другом пашей и «самых высокопоставленных лиц оттоманского режима … он посвящает значительную часть своего времени для организации поддержки борьбы черкесов, пытаясь превратить их в верных союзников британских интересов»[139].
Благодаря рекомендациям Сефер-бея Зана он становится первым английским агентом, сумевшим проникнуть в Черкесию в 1833 г. Затем последовали еще несколько проникновений в горы в 1834 и 1835 гг. Д. Уркварт передавал черкесам письма от британских и турецких официальных лиц, в которых содержались призывы «упорствовать в мятеже, обнадеживая скорой подмогой как со стороны Высокой Порты, так и со стороны Англии»[140].
Д. Уркварт бомбардировал Лондон меморандумами через посредство британского посланника в Константинополе лорда Понсонби {Ponsonby}, в которых настойчиво повторял, что «если мы не остережемся, Россия завладеет Кавказом и всем влиянием, которое даст ей это, на Турцию и Персию»[141]. Горячность и пафос агента, пользовавшегося симпатией Букингемского дворца, даже встревожили шефа Foreign Office лорда Пальмерстона {Palmerston}, который стал опасаться возможностью войны с Россией из-за действий Д. Уркварта, этого «подожженного корабля, пущенного в Босфор»[142].
Агентурная деятельность позволила Д. Уркварту познакомиться с поляками, участниками восстания 1830 г. против русской власти. В Париже, в «Отеле Ламбер» {Hotel Lambert} у Адама Чарторыйского {Adam Czartoryski}[143] в 1834 г. он познакомился и подружился на общей почве ненависти к России с графом В. Замойским {Zamojski}, через которого и по протекции которого получил доступ к конфиденциальным документам русской дипломатии, найденным и вывезенным из Варшавы. Д. Уркварт стал месяц за месяцем публиковать их в журнале «Портфолио», «чтобы открыть миру истинные, безнравственные намерения Российской империи»[144].
В Смирне стояло несколько купеческих судов под английским флагом, нагруженных контрабандным товаром для черкесов[145]. На одном из них находился корреспондент лондонской газеты «Morning Chronicle», John Longworth в компании с уже известным русским Дж. Беллом, которого ранее арестовывали вместе со шхуной «Vixen» и который в мае 1837 г. пробрался к натухайцам, шапсугам и абадзехам и передал им знамя, якобы посланное им английской королевой[146]. Другая английская шхуна «Yarmouth», шкипер Тревильян (Trevilian), намеревалась завести к черкесам и абадзехам легкую пороховую мельницу[147]. В августе 1840 г. к кавказским берега прорывалась шхуна «Ariel» под командой шкипера Карла Блейдса {Charles Blaydes} с бочками пороха для черкесов.
Французы, их консолидированное мнение выразил Ф. Талейран в беседе с А. Чарторыжским, считали, что русские, которых они называли «московиты», «играют роль бича Господня над Европой… Дайте ему свободу, и он перенесет свою столицу в Константинополь, и граница его протянется с берега Адриатического моря под ворота Вены…»[148]. По этой причине Кавказ мог бы стать действенным средством сдерживания России.
Британцы также мечтали превратить Кавказ в неприступный барьер российским устремлениям на Востоке, способный остановить движение России в сторону Индии, так как в то время «русская угроза…казалась очевидной для любого, бросающего взгляд на карту»[149]. Они вместе с французами превратили Константинополь в центр антироссийских сил, наиболее близко расположенный к Кавказу, из которого можно было направлять подрывную деятельность не только европейских или турецких агентов и эмиссаров, но наладить тесное взаимодействие с представителями дворянских сословий, бывших элитой среди черкесов. Им удалось добиться того, чтобы Константинополь (Царьград) приобрел для черкесов значение столицы мира, «там они заимствовались манерами, там учились грамоте, утверждались в мусульманстве, узнавали о политике и заискивали протекции у Порты»[150].
Чтобы удерживать черкесов в сферах своего политического влияния, все участники политической интриги, европейцы и турки, раздавали постоянные заверения, что они сочувствуют черкесам и помогут им в борьбе с русскими. Доставка оружия и пороха на Кавказ из Самсуна и Трапезунда была делом в 1830–1840-х гг. вовсе не трудным несмотря на то, что Россия стала защищать Черноморское побережье Кавказа учреждением прибрежного крейсерства военными судами. Доставка людей точно также не представляла больших затруднений, хотя русские крейсера, бывало, захватывали до 50 турецких и английских судов контрабандистов в год (1835 г.)[151].
Не существовало каких-либо затруднений в получении рекомендательных писем у друзей Черкесии в Константинополе. Европейские и турецкие эмиссары запасались поручительными письмами у проживавших там черкесских дворян. Например, Сефер-бей Заноко, благодаря уважению, которым пользовалась в горах его семья, мог позволить себе издали действовать на Кавказе. При нем постоянно находились депутаты враждебных русским шапсугов, среди которых были Хаджи Хартул, Хаджи Бесленей и мулла Мегмет. Сефер-бей имел письменно подтвержденные полномочия, скрепленные печатями почти 200 горских узденей и начальников. По внушению английских своих доброжелателей он посылал от своего имени письма, которые расходились среди шапсугов и их соседей, в которых повторялись уверения, что «Англия и другие державы признают независимость горцев и расположены даже выслать им помощь»[152].
Рекомендательные письма давали европейским эмиссарам возможность иметь в горах покровителей, без которых пребывание чужаков там было бы невозможно. Поскольку «как бы хорошо европеец ни владел местным языком, путешествуя среди азиатов, ему чрезвычайно трудно избежать разоблачения. Его выговор, манера сидеть, ходить или скакать верхом … сильно отличаются от привычек азиатов»[153].
Э. Спенсер читал, что опасность добраться до Черкесии, «если действовать лишь с обычной осторожностью, не более чем страшилка, ибо в хорошую погоду и при попутном ветре маленькие турецкие суда способны проплыть от Трапезунда или любого иного порта в Лазестане до Верхней Абазии менее чем за 24 часа, не считаясь с русской блокадой»[154].
Лучшим временем для такой поездки была осень или зима, поскольку тогда устанавливались непогоды и штормы, и русские крейсеры уходили в порты приписки на зимовку. Но даже в такое время, чтобы гарантировать успех предприятия, такого агента должны сопровождать лица, обладавшие свободой передвижения по русским владениям. Часто в этой роли выступали караимы или армянские коробейники. «Благодаря торговым сделкам с жителями Кавказа, эти люди лично знакомы со многими влиятельными вождями различных племен и, что в равной степени важно для того, чтобы быть проводником, хорошо знают пути и тайные маршруты»[155].
Свой вклад в антироссийское противостояние на Кавказе внесли центры и представители эмиграции, вышедшие из польской инсуррекции. Во Франции таким центром был ранее упоминавшийся «Отель Ламбер», которым деятельно руководил Адам Чарторыжский, а в Константинополе его представителями и агентами поочередно были М. Чайковский, Вержбицкий, граф Костельский и полковник Иордан[156].
Там считали, что по естественному духовному сродству, воплощавшемуся в рыцарском духе, поляки и черкесы не могли не любить друг друга. Тем более, что к А. Чарторыжскому приходили письма, авторство которых приписывали неким «старикам правого фланга» – черкесским узденям и старейшинам[157]. Они желали иметь над собой человека, не связанного местным родством и не замешанного в местных распрях. Названные черкесы готовы были рассмотреть в качестве такого кандидата одного из сыновей князя Чарторыжского.
Проект не был реализован, что вызвало недоумение у современников, настроенных критически в отношении России. Так, Василий Кельсиев считал, что «…раз проложив дорогу польской эмиграции на Кавказ, устроив из нее отдельный отряд и даже земледельческие колонии, можно было смело рассчитывать на дезертирство поляков из Кавказского корпуса, можно было вести войну… систематическим образом, и если не отнять … Кавказ, то сделать его больнее чем он был»[158].
Кавказские реалии были все же несколько иными, чем о них думали в европейских кругах, неприязненных к русским. Рыцарства в горах не оказалось, как не оказалось какой-либо симпатии к чужакам. На Кавказе «преобладал полнейший феодализм». Черкесские князья ссорились между собой по всякому поводу, «племя ходило на племя, кровная месть поднимала целые войны»[159]. Северо-Западный Кавказ «кипел своими домашними делами, которые совершенно заслоняли от него всякие интересы цивилизации и всякие политические союзы с Доном, с Украиной и с Польшей»[160].
Черкесы по своей природной склонности были крайне подозрительны к чужакам и не выказывали радушия к дезертирам и перебежчикам, «опасаясь, что между ними притаился волк в овечьей шкуре»[161], т. е. русский шпион. Солдаты и офицеры из поляков, получив опыт взаимодействия с черкесами, не пошли к ним, потому что «горцы не делали ни малейшего отличия между поляками и русскими, и всех пленных одинаково обращали в рабство»[162].
Российские власти знали о настроениях и проектах, циркулировавших в среде европейской политической публики, а потому внимательно отслеживали передвижения враждебных им эмиссаров и агентов влияния на Кавказе и в сторону Кавказа. Это требовало большой и кропотливой совместной работы российской разведки, зарубежных консулов, контрразведки и полицейских властей. Из Константинополя весьма часто приходили сообщения от полномочного министра при Порте Оттоманской тайного советника А.П. Бутенева, который располагал там разветвленной агентурой и сообщал в июле 1837 г., что в течение месяца в г. Самсун собирались прибыть два офицера английской службы, полковник Конситейт (Konsiteit) и капитан Смит (Smith), которые намеревались посетить Черкесию с особой миссией[163].
Кроме того, А.П. Бутенев сообщал, что по распоряжению Дж. Белла, находившегося среди черкесов, строилась шхуна около пристани абадзехов. Строителем был некто Хаджи Актоган из Самсуна. Ранее, по заказу того же Белла, было доставлено из Трапезунда на черкесский берег пороха на сумму 5 000 турецких пиастров, который выгружен там благополучно[164].
Информация российским властям также поступала и от чрезвычайного посланника при Порте Оттоманской действительного статского советника барона Рикмана, который в ноябре 1837 г. предупреждал М.П. Лазарева, что в Константинополе находились два офицера английской службы капитан Маррин (Marrin) и лейтенант Иддо (Iddo), прибывшие из Черкесии морским путем до Самсуна, а оттуда в Константинополь. Их сопровождал принявший ислам поляк Полинский, состоявший при них переводчиком[165]. Немало ценных сведений поступало от графа М.С. Воронцова, который, благодаря своему происхождению и связям в европейских аристократических кругах имел там конфидентов, снабжавших его информацией, которую российская контрразведка использовала в противоборстве с недругами России. Русская контрразведка весьма точно знала, чем занимались английские агенты в горах Черкесии и пыталась разнообразными мерами пресекать их деятельность.
Суда Черноморского флота своим крейсерством вдоль восточных берегов Черного моря также должны были пресекать проникновение на Кавказ тех поляков, которые обвинялись в антироссийской деятельности и, по сведениям русской разведки, собирались прибыть в край, чтобы установить связь с «немирными» горцами. Таких агентов курировали «Отель Ламбер» и его представители в Константинополе, поскольку этот город в то время был переполнен поляками, которых всегда можно было встретить в местных кофейнях[166].