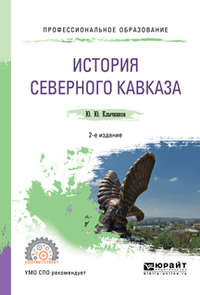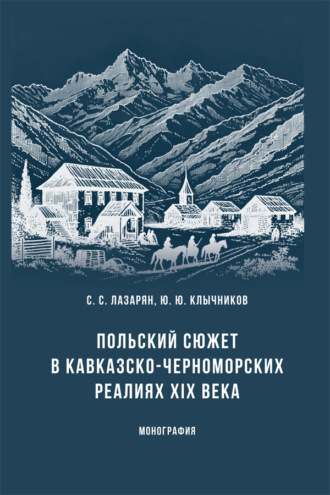
Полная версия
Польский сюжет в кавказско-черноморских реалиях XIX века

С. С. Лазарян, Ю. Ю. Клычников
Польский сюжет в кавказско-черноморских реалиях XIX века. Монография
Авторы:
Лазарян С. С., доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета;
Клычников Ю. Ю., доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии Пятигорского государственного университета.
Под научной редакцией кандидата политических наук, профессора Пятигорского государственного университета В. Е. Мишина.
Изображение на обложке было создано студией «Проспект» специально для настоящего издания.

© Лазарян С. С., Клычников Ю. Ю., 2025
© ООО «Проспект», 2025
Введение
Обозначенная тема – почти безмерна. В российских архивах сосредоточено большое количество документов, ожидающих скрупулезного исследования и выявления новых фактов в указанном направлении. Хотя авторы не являются здесь первопроходцами, описываемые события по-прежнему обладают немалой новизной и малоизвестны для широкой публики. Авторы старались оставаться в рамках объективности, и избранный ими ракурс подачи материала не преследовал целей умаления чьей-либо славы или возведения на кого-либо напрасных инвектив. Хотя поляки были избраны центральным объектом повествования, выдвигались в своего рода протагонисты в исследуемой исторической пьесе, все иные социальные актанты не превращались из-за этого в простых и пассивных фигурантов исторического процесса. Авторы лишь для наглядности вычленяли поляков из гущи исторических событий и людей, помещая их на авансцену исключительно для исследовательских целей и определения их реальной роли и значения.
Материалы, представленные на страницах данной монографии, дополняют предыдущие публикации авторов[1] и проливают свет на обстоятельства, которые ранее по большей части не были объектом пристального внимания заинтересованных наблюдателей ни в России, ни в Польше как из-за существующих долговременных социально-культурных стереотипов, так и по причине исторического идейного соперничества и неприязни, сохраняющихся в политических элитах обоих государств. Информация о поляках, невольно или осознанно послуживших славе Российской империи на Кавказе, долго не востребовалась в Польше не потому, что была труднодоступной, а прежде всего потому, что в ней, вероятно, не очень нуждались, поскольку имперские поляки были потеряны для «польскости», как об этом написал Яцек Легеч (Jacek Legieč), приводя цитату В. Цабана (Wiesław Caban): «…stracona została dla polskości»[2], не бунтовали против России и не шли умирать на баррикады во имя шляхетских идеалов.
В Российской империи перед польскими шляхтичами стоял выбор: оставаться в рамках «polskości» и пополнить ряды мучеников и эмигрантов или реализовать себя на царской службе и перейти на позиции вынужденных коллаборантов. Выбор был делом индивидуальным. Что касается польских масс города и деревни – у них не спрашивали согласия, мобилизовали посредством вмененной рекрутации.
Первый путь был для немногих, политически ангажированных или перманентных фрондеров, чьи социальная роль и статус в условиях имперского доминирования ущемлялись и не могли осуществляться в традиционной форме. Кроме того, бунтовать устремлялась одухотворенная историческими образцами молодежь, захваченная героизмом национальной мечты. В тех условиях это оборачивалось почти катастрофой. Вне этой когорты шляхетства многие, в силу непреодолимости обстоятельств, избирали путь самореализации за рамками политических деклараций, направленных против Российской империи. Одновременно эти люди от национальной польской идеи публично не отказывались и не отрекались.
Из всего многовекового наследия отношений России и Польши авторы монографии сосредоточили свое внимание преимущественно на взаимодействии поляков с Российской империей на протяжении XIX века на отдельно взятой территории – Кавказе. Это, прежде всего, обусловлено как самим интересом авторов к данной проблеме, так и событиями, связанными с ходом завоевания Кавказа Россией и массовым участием в них выходцев из Польши.
Поляки на Кавказе – это большая и многогранная тема, требующая усилий многих исследователей, заинтересованных в выявлении всех сторон данного явления. Авторы не питали иллюзий по поводу того, что им удастся представить полную и всеобъемлющую картину исторического прошлого, связанного с пребыванием поляков в кавказо-черноморском регионе, но постарались в местной повседневности XIX века прояснить роль выходцев из бывшей Речи Посполитой, последствия разделов которой сделали поляков частью исследуемой исторической реальности.
Независимо от того, каким образом поляки попадали на Кавказ, по собственной воле или вопреки ей, они много поспособствовали укреплению позиций Российской империи в крае. Можно даже утверждать, что поляки помогли России завоевать Кавказ, превратив его в неотъемлемую часть Российского государства. С другой стороны, было бы очень интересно увидеть, как пребывание поляков на данной территории отразилось на них самих. Что поменялось, и поменялось ли, в их жизненном опыте от столкновения с реалиями страны, столь далекой по своей социокультурной наполненности и смыслам, от того, к чему они были обучены, к чему привыкли, что определяло характер и цели польского национального существования.
Исследуя биографии отдельных поляков, проживших долгие годы вдали от их родины, можно с большой уверенностью отметить, что они сделались частью жизни кавказского края, вписав свои имена в скрижали местной истории. Вероятно, они надеялись и планировали прожить иначе. Вероятно, ранее они даже не знали или не думали о существовании Кавказа, но жизнь и имперские власти распорядились вопреки их желаниям и мечтаниям.
После войны 1812 г., а затем после драматических событий, связанных с ноябрьским восстанием и войной 1830–1831 гг., а также январским восстанием 1863 г., тысячи их участников вместе с рекрутами-конскриптами проходили службу в рядах Отдельного Кавказского корпуса. В силу своего статуса, как и в силу своей образовательной подготовки, большая часть поляков была задействована во всех службах и по всем частям кавказского края.
Не всех судьба хранила. Многие погибли в сражениях с непокорными горцами или от ран и болезней, или от тягот армейской жизни в крае, к климатическим условиям которого не были подготовлены. Но также многие стали героями и сделали блестящие карьеры на царской службе. Большое число поляков не только на себе испытали все особенности военно-колонизационного существования, но даже отчасти впитали дух кавказского существования и его традиции, овладели языками местных народов.
Отдаленная имперская окраина была пространством социокультурного столкновения и диффузии многих этнических элементов, живших там изначально или пришедших туда в качестве колонистов, военных, чиновников или ссыльных. Часть поляков, пройдя жизненную школу Кавказа, не только радикально поменяли свои взгляды на жизнь или внесли существенные коррективы в свои социальные установки, но и настолько сделались частью вмененного им бытия, что по доброй воле закончили свой земной путь в пределах края.
Среди влияний, оставивших след в жизни многих молодых людей (как поляков, так и представителей других этносоциальных групп), попадавших на Кавказ и соприкасавшихся с культурой и бытом коренных народов, можно выделить, например, страстное желание молодых людей испробовать на себе статус молодца-джигита. Этот статус был окрашен в военной, а через нее и в обывательской среде, неким романтическим флером и одновременно привлекал своей внутренней сосредоточенностью и достоинством, которые отмечались в поведении горских удальцов.
На Кавказе джигитами издревле назывались наездники, отличавшиеся отвагой, выносливостью, искусством лихо управлять конем и владеть всякого рода оружием. Джигитам подражали офицеры, стремившиеся ездить на лошадях, копируя горскую посадку. Покупали горских коней, надевали черкески и горское холодное оружие, участвовали в джигитовках – бешенных скачках с акробатическими трюками, во время которых всадники демонстрировали свою ловкость и умения. Горцы приобретали такие умения с детства в условиях каждодневного милитарного быта, перманентной войны и разбоев. Джигитовка была естественной частью их воинского воспитания. Все остальные, наблюдая за горцами, стремились перенять их наездническую сноровку, проникнуть в самый дух их молодечества, были захвачены этой страстью в силу производимого ею впечатления или по причине общих романтических представлений о кавказской жизни.
Более других на этом поприще, однако, преуспели казаки, для которых Кавказ стал новой родиной. Казаки сделались неразличимы от черкесов или чеченцев, сравнявшись с ними как в джигитовке, как в воинской сноровке, так любви к славе и в бесстрашии. Среди поляков способными выучениками Кавказа были, например, А.А. Иедлинский или Ф.А. Круковский – герои, которые заслужили в войсках славу лихих наездников и отчаянных храбрецов.
С другой стороны, быть джигитом или быть похожим на них суть разные состояния. Подражая внешней стороне жизни горских удальцов, сосредоточившись на внешней атрибутике их образов, редко кто делал их способ существования своим, поскольку смыслом жизни истинного джигита в горской культуре было разбойничество и наездничество – нападения на мирные аулы или станицы с целью грабежа, отгона скота и захвата людей в плен для дальнейшей перепродажи в рабство. «Горские джигиты выезжали погулять не для возмездия притеснителям, а для грабежа встречного и поперечного»[3].
Наездничество и вообще быт удальцов – джигитов с разбойничьей резней по ущельям, горам и засадам были вмонтированы в быт и характер горских народов. Слава лихих наездников была самой драгоценной им наградой, а неприступность гор и пособничество местных жителей предоставляли много способов оставаться вне поля зрения имперских властей.
Все, на кого производили впечатление прославленные джигиты, кто уверовал в то, что они суть символ отваги и храбрости, кто хотел стяжать славы не только в войсках, но и горах, при этом не имея возможности по воспитанию и нравственным установкам принять для себя подлинный способ существования горских удальцов, обыкновенно не шли далее наружного имитаторства. Мода подражать горским героям, сделалась широко распространенным явлением среди дворянской молодежи в кавказских войсках. Этому трудно было противиться в условиях всеобщей романтической увлеченности и всеобщего стремления выделиться из толпы и привлечь внимание к своей особе. Игра в «джигитов» была популярна и среди части молодых поляков, сделалась для них сродни соревнованию, в котором можно демонстрировать не только свои возможности, но и приобрести авторитет в новом для них социокультурном окружении.
Немало поляков, сосланных на Кавказ отбывать наказание за участие в патриотических организациях, превратились там в прославленных и закаленных офицеров Российской армии. Многие поляки отличались в своих подразделениях не только высоким уровнем образованности, как бывшие студенты Варшавского или Виленского университетов, но и неучастием в попойках, бывших обыденностью в гарнизонах крепостей и прибрежных укреплениях. Среди них были Феликс Лисовский, Адам Тржасковский, Францишек Вояковский, Иосиф (Юзеф) Ранжевский и другие. Такие люди преуспевали не только на военной службе, но стали офицерами – исследователями, как тот же Феликс Лисовский, изучавший Абхазию и Сванетию, или Викентий Бентковский, ставший знатоком Ставропольской губернии, или Казимир Прушановский, исследовавший Дагестан и историю мюридизма.
Кавказ не только удивлял или восхищал, не только пугал или устрашал, он также пробуждал поэтические таланты в тех, кто был потрясен его величием и многоликостью, мог сопереживать всему, был всем очарован. Для Владислава Сташельницкого, Тадеуша Лада-Заблоцкого (умер в 35 лет, но оставил много стихов) и Леона Янишевского, горный край стал поэтической колыбелью. Отбывая службу в войсках и проживая в Тифлисе с 1837 г., поляки подружились с известными грузинскими культуртрегерами и поэтами Н. Бараташвили и М. Туманишвили. Грузия, ее природа, общение с местными образованными элитами и простонародным населением, живописная и экзотическая повседневность произвели на них необычайное впечатление[4], способствовали развитию их поэтических наклонностей. Всего в Тифлисе в 30–50-е гг. XIX в. проживало около 5000 поляков, в среде которых сложилась группа из 40 человек литераторов[5]. Сближению поляков с грузинской интеллигенцией много содействовало сопереживание сходных чувств, связанных с потаенными мечтами о восстановлении суверенитета их утраченных государственностей. Поляков как правило тепло принимали в грузинской культурной среде, а «их судьбу грузины отождествляли с собственной»[6] и наоборот, поляки видели в грузинах собратьев в борьбе за свободу.
Польские ссыльные познакомили с Грузией своих соотечественников, пересылая свои художественные тексты, очерки и письма на родину. В польских журналах 1843–1855 гг. постоянно публиковались их кавказские материалы, среди которых были рассказы упомянутого поэта и музыканта Леона Янишевского, находившегося в этой стране до конца своей земной жизни – до 1861 г. Кроме того, о Грузии писали сосланные на Кавказ Станислав Новацки, Бутовд-Анджейкович, Матеуш Гралевски, Казимир Лапчински и другие[7].
В 40–50-х годах XIX века из Польши в Грузию стали прибывать чиновники, педагоги, купцы, участники т. н. «экономической эмиграции». Расселялись они как в Тифлисе, так и в Кутаиси, Гори, Телави, Батуми. Среди тех, кто искал лучшей доли на Кавказе были также инженеры, музыканты, врачи и художники, например, Фердинанд Рыдзевский, Люциан Трусковский, Зигмунт Валишевский и братья Зданевичи[8].
В целом для ссыльных поляков пребывание на Кавказе не было слишком удобным или простым. Тех, кого причисляли в разряд «государственных преступников», упорствующих в своих заблуждениях, не оставляли без присмотра полицейских властей, в том числе и в войсках. От войсковых командиров требовали установить неусыпный надзор за «опасными бунтовщиками», не допускать их влияния на офицеров или солдатскую массу[9].
С другой стороны, часть поляков из упомянутой «экономической эмиграции» селились в крае добровольно, надеясь на удачную карьеру на гражданской службе, коротали многие годы в уездных кавказских захолустьях или областных центрах, составляя заметную часть имперского чиновничества и местного культурного сообщества. Эти люди внесли немалый вклад в развитие имперской окраины, способствовали вместе со всеми другими представителями образованного общества укоренению там европейских начал в разных сферах жизни.
Также добровольно стремились попасть на Кавказ польские офицеры, выходцы из так называемой шляхты-голоты, не имевшие возможности реализовать свой личностный и профессиональный потенциал в своем отечестве, и искавших на русской службе заработков, наград и карьеры.
Сегодня, несмотря на большую сложность и неоднозначность двусторонних отношений между поляками и русскими, российские и польские историки должны вести диалог, чтобы получить возможность осмыслить ключевые проблемы нашего общего исторического прошлого. Исследование жизни и судеб поляков, оставшихся навсегда на Кавказе, или находившихся там какое-то количество лет своей жизни, будут способствовать не только установлению новых фактов, но и станут доказательством неразрывности их с Кавказом, глубокую их вовлеченность в историю формирования одной из частей Российского государства. В этой связи можно таже говорить о наличии некоего социокультурного феномена – польских кавказцах, по аналогии с такой же категорией людей, воспитанных в кавказских условиях – русских кавказцах, которых выявил и описал М.Ю. Лермонтов[10].
Описываемые в монографии события подаются под тем ракурсом, который позволяет выявить присутствие поляков в повседневной жизни южных окраин Российской империи XIX века. Сосредоточенные там многие тысячи поляков были участниками событий, судьбоносных для империи, делали то дело, к которому их призывали, в меру своих способностей и возможностей. Подавляющее их большинство служили честно и проявляли храбрость в сражениях, компетентность и профессионализм на избранном или вмененном им гражданском поприще.
Например, поляки-матросы императорского Черноморского флота – это достаточно экзотическое для многих явление, которого редко касались исследователи. Корабли Черноморского флота, осуществляли крейсерство вдоль Кавказского побережья Черного моря в течение первой половины XIX века вплоть до начала Крымской войны 1853–1856 гг. Авторам удалось выявить и проследить механизм и пути, по которым поляки попадали на суда и во флотские экипажи Черноморского флота, их повседневный быт и участие в противостоянии с горцами Северо-Западного Кавказа и в обороне Севастополя. Однако полученные результаты – лишь начало исследовательской работы в этом направлении, своеобразный манифест, призывающий к действию.
Хотелось бы также сказать несколько слов по поводу польской фронды и ненависти к России, которыми была заражена польская шляхетская элита. Из доступных на сегодняшний день источников и документов авторам удалось обнаружить на Кавказе отдельные ее эпизоды, что можно объяснить либо малым количеством представителей шляхетской элиты в крае, либо местными обстоятельствами, демотивировавшими энергию польской ненависти к русским. Хотя в жизни возможно всякое, и фронда в том числе, но ее присутствие на Кавказе не было критически опасным, не оказало катастрофического влияния на ход событий, и сосредоточивалось в случаях бегства польских дезертиров из войск Отдельного Кавказского корпуса (ОКК) к горцам или в деятельности непримиримых польских эмиссаров, мало преуспевших в отчаянных усилиях превратить Кавказ в орудие своей инсуррекции, даже если вспомнить пример Т. Лапинского.
Среди большого числа поляков, вероятно, были люди, которые не любили Россию, даже относились к ней враждебно, при определенных условиях соглашались вредить ей, но они не составляли подавляющей массы. Это, в то же время, не означало и всецелого расположения, например, польских рекрутов к империи или симпатиях представителей польской «экономической эмиграции» к Петербургу. Жизнь и Судьба забросили их на Кавказ, и они несли выпавший им крест как умели: кто-то смирился, кто-то стремился воспользоваться случаем к собственной пользе, а кто-то мечтал о мести и тайно или явно злоумышлял и действовал против русского царя и России.
Из архивных документов также выяснилось, что среди имперских чиновников, как военных, так и гражданских, существовали предубеждения или настороженность в отношении польских выходцев, но по большей части негативные ожидания не подтверждались. Поляки на службе империи исполняли свои обязанности добросовестно, наряду с представителями всех иных этнических групп, входивших в политическое пространство Российской державы. Вместе со всеми, случалось, рисковали своей жизнью и погибали во время военных действий в составе флотских и корабельных экипажей, рядовыми сухопутных батальонов или были среди храбрых офицеров, отмеченных наградами. Десятки медиков польского происхождения своим самоотверженным трудом спасли жизнь тысячам раненых и больных, находившихся в укреплениях Черноморской береговой линии, в крепостных гарнизонах, в местах расквартирования российских пехотных полков Крымской армии, в морских флотских экипажах и на кораблях Черноморского флота.
Авторы в меру своих сил старались вернуть России и Польше имена людей, чьи жизнь и дела сохраняют наше совместное прошлое, нашу общую славу и гордость, и которые могут содействовать выработке иммунитета против ослепляющей злобы и ненависти. В то же время авторы не настолько наивны, чтобы не понять, лежащих на этом пути трудностей, поскольку естественным остается то, что выстраивающиеся в России и Польше проекты исторической памяти развиваются в форме параллельных версий, конкурирующих друг с другом.
Глава 1
Кавказ и Польша как вызов России
1.1. Destruam et aedificabo[11]
Расширение пределов Российского государства приводило к появлению в его составе новых территорий, которые населяли народы, чей хозяйственный, социокультурный и психофизический облик не всегда вписывался в существовавшие тогда принципы и правила жизненного уклада, практикуемого в России. В этом случае приходилось предпринимать многотрудные усилия по сближению таких сообществ с российскими образцами, предлагая им, по возможности, приемлемые условия сосуществования, и, в свою очередь, испытывая культурное воздействие со стороны новых соотечественников.
Изначально формируясь как полиэтничное пространство, Россия за свою многовековую историю накопила немалый опыт примирения даже недавних антагонистов, «иммунных» к внешнему воздействию и враждебно воспринимающих любые попытки повлиять на привычное для них мироустройство и мировидение.
Необходимость включения столь проблемных земель в состав имперского государства часто предопределялась причинами, связанными с решением геополитических задач по обеспечению внешнеполитической безопасности, снятию реальных и потенциальных угроз или улучшения геостратегической конфигурации, способной предоставить ощутительные выгоды от новых условий выстраиваемого пространства.
Этим можно объяснить упорство и бескомпромиссность в освоении новых владений, целесообразность в обладании которыми не раз ставилась под сомнение как современниками, так и потомками. В этом отношении польский и кавказский вопросы, надолго сделавшиеся головной болью для имперской политической элиты, бывшие очагами нестабильности и разного рода деструкций, весьма примечательны, т. к. служили наглядным примером преодоления изначального отторжения, демонстрируемого сторонами межкультурного и межцивилизационного диалога.
Отношение к полякам и Польше в русском обществе вместе с тем никогда не было однозначным. Наряду с официальным великодержавием существовало немалое число оппозиционно настроенных к властям подданных российского императора, которые видели в поляках пример самоотверженной борьбы «за нашу и вашу свободу». Наиболее радикально настроенные молодые российские дворяне или выходцы из сословия разночинцев сопереживали и даже содействовали их делу. Польская фронда находила парадоксальным образом сочувствие даже среди членов императорской фамилии, готовых понимать и прощать строптивым подданным их шалости и «измены», и даже откровенную ненависть к России.
В этой связи история взаимодействия России и Польши может быть рассмотрена с позиции многовекового соперничества между ними, и вслед за А.С. Пушкиным[12] остается повторить:
Уже давно между собоюВраждуют эти племена;Не раз клонилась под грозоюТо их, то наша сторона.Кто устоит в неравном споре:Кичливый лях, иль верный росс?Следует также отметить, что оценка русско-польских взаимодействий в русской литературе могла быть весьма резкой, доходить до оскорбительных образов. Примером выступал Д.В. Давыдов, который почти угрожал, обращаясь к своим политическим оппонентам: «Поляки, с Русскими вы не вступайте в схватку: Мы вас глотнем в Литве, а вы…м в Камчатку»[13].
Если обратиться к истории российско-польских отношений, то надо подчеркнуть, что на заре становления российской и польской государственности, прежде всего в X в., как Россия, так и Польша стартовали в относительно равных условиях, но сделали ставку на разные центры силы и социокультурного и религиозного влияния: Польша ориентировалась на католический Рим, а Россия – на православный Константинополь. Вызовы, на которые им приходилось отвечать и преодолевать разнородные и многотрудные угрозы, не предоставляли сторонам существенных преимуществ друг перед другом. Хотя на момент принятия в 966 г. христианства Польшей, она уже считалась «самым крупным и лучше организованным славянским государством»[14], а в правление Болеслава Храброго наметилось даже лидирующее положение Польши в Центрально-Восточной Европе.
Россия в то время известная под именем Киевская Русь, развивалась и переживала подъем, опираясь на культурно-политическое и религиозное влияние Византии, «стоявшей выше любого западного центра»[15]. Не будучи вассальным государством Византии, Киевская Русь даже после принятия христианской веры в 988 г. не опасалась включения в состав Восточно-Римской империи, с которой была тесно связана разнообразными узами.