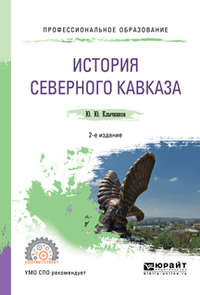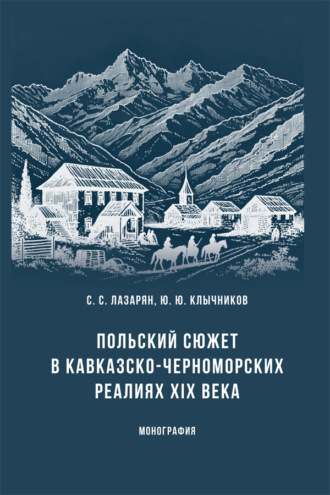
Полная версия
Польский сюжет в кавказско-черноморских реалиях XIX века
То есть, уже в X в. наметилась разновекторность в развитии России и Польши, хотя обе страны с нуля строили свою феодальную государственность, прокладывали дороги, возводили города, храмы и монастыри. Обеим приходилось противостоять внешней экспансии на своих границах: с запада не ослабевал натиск германо-скандинавских захватчиков, а с востока нападали степные кочевники.
Пережив потрясения XIII–XIV вв., Россия и Польша успешно превратились в крупнейшие государства Восточной Европы. У каждой страны на этом пути были вехи национальной славы – Куликовская битва 1380 г. у русских, и Грюнвальдское сражение 1410 г. – у поляков. Но уже с XVI в. «начинается дивергентное расхождение, постепенно приведшее одну славянскую державу к статусу империи и сверхдержавы, а другую – к исчезновению с карты»[16]. Наметились тогда же коренные морфологические различия во внутреннем устройстве обоих государств: «Россия становится образцом самодержавия, в то время как Польша – символом неуправляемой демократии»[17].
Морфологические различия определялись историческими обстоятельствами и не препятствовали до времени сторонам расти и набираться сил. Почти 300 лет Польша была самым крупным и одним из богатейших государств Европы, простиравшимся от Балтийского моря до Черного моря. В результате активной внешнеполитической экспансии Польше, значительно усилившей свой потенциал благодаря унии с Литвой, удалось подчинить богатейшие земли Украины. Она получила аграрную базу, с помощью которой могла содержать многочисленный слой военной аристократии, занимавшей весьма существенную нишу в польском социуме. Если в России служилое дворянство оценивалось в 3 % от общего числа населения[18], то представителей шляхты в Польше было не менее 8–9 % и «в процентном отношении являлась самым многочисленным привилегированным классом Европы»[19]. Обладавшие политической автономией, шляхтичи не зависели от короля и, будучи самостоятельными вотчинниками, «чьи земли и привилегии унаследованы от воинственных праотцов», могли воспользоваться liberum veto, заблокировав любое начинание сейма[20]. Дворянские вольности Речи Посполитой в итоге приводили к тому, что для управления страной часто «избирались посредственности, которыми легче было манипулировать»[21]. Но зато можно было не опасаться покушений на права элиты, первое время успешно демонстрировавшей свою способность справляться с историческими вызовами как во внутренней, так и внешней политике. Уверенно продвигаясь на восток, Польша постепенно сделалась житницей Европы. Если испанские идальго обрушили на Старый свет драгоценные металлы, то шляхтичи снабжали его своим продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Эксплуатация украинских и белорусских холопов обеспечивала даже небольшим усадьбам значительный экспортный доход, позволявший содержать знаменитую польскую кавалерию, заслуженно пользовавшуюся славой сильнейшей на континенте. Владельцу-пану даже не нужно было вникать в особенности организации хозяйственной жизни своего экспортноориентированного аграрного предприятия, т. к. за него это делал наемный еврей-управляющий[22].
В такой ситуации ожидать развития передовых промышленных производств не приходилось. Необходимые товары всегда можно было приобрести у тех, кто закупал у поляков их сырье и аграрные продукты. В свое время эту проблему Польши отметил Ш.Л. Монтескье, указав на то, «что мы назвали всемирными движимостями, у нее (Польши – Авт.) почти нет вовсе, если не считать хлеба и полей. Несколько магнатов владеет там целыми областями и притесняет земледельцев, стараясь выжать из них как можно больше хлеба, чтобы, продав его иностранцам, приобрести предметы роскоши, которых требует их образ жизни»[23]. За витриной внешнего благополучия скрывался будущей системный кризис Речи Посполитой. Лишь «выход из зоны комфорта» мог дать ей шанс на спасение, но внутренних предпосылок для этого не было[24].
Между тем ситуация в мире претерпела кардинальные изменения. Произошедшая «великая огнестрельная революция» вернула прежний статус «царице полей» пехоте, с помощью артиллерии лишившей ореола славы долго господствовавшую на поле боя кавалерию. Польша «с ее военным делом, основанным на широком применении конницы, и явным недостатком современных укреплений, осталась в стороне от ключевых изменений, что составляли сердце военной революции: затмение конницы пехотой и возрастания значения крепостной войны»[25]. Прежнее торжество польско-литовского оружия «сменилось практически при жизни одного поколения глубочайшим упадком, превратившим Речь Посполитую в «проходной двор» Европы»[26]. Это полякам весьма наглядно продемонстрировали шведы, война с которыми в середине XVII в. стоила им трети населения. В то время как «пасынки судьбы» русские, чуть было не ставшие подданными польской короны, и которых польская шляхта упорно относила к варварам, отказываясь признавать царский титул королевича Владислава и претензии на власть над «всея Русью», преодолев Смуту, создали в итоге империю.
Многонародная страна русских «с ее централизацией, уральскими заводами и колоссальными землями, загодя приобретенными и освоенными на юге и востоке, быстро превращалась в военную державу мирового уровня. При таком балансе сил Речь Посполитая была обречена на поглощение, которое логически довершило периферийное ослабление ее экономики и политической организации»[27].
Сформировавшийся и закрепившийся архетип сознания польской магнатерии не позволил ей консолидироваться даже в обстоятельствах, грозивших потерей суверенитета их отечеству[28]. Последовавшие три раздела страны более чем на столетие прервали самостоятельность государства, некогда являвшегося одним из европейских лидеров, претендовавшего на территорию «Polska od morza do morza»[29].
После 1573 г. в Польше укрепилась теория и практика государственного строя, при которых короли стали избираться сеймом шляхты. Всего было избрано 11 королей. Само государство – Rzeczpospolita – сделалась республикой шляхты, а король – лишь ее слугой[30]. Польская экономика, где благополучие опиралось главным образом на балтийскую торговлю зерном, начала погружаться в стагнацию уже в 1620-е гг. и особенно стала сдавать свои позиции после десятилетия войн: 1648–1652 гг., 1654–1667 гг., 1655–1660 гг. Экономическая стагнация и обнищание городов сопровождались процессами «постепенного окостенения официальной государственной системы»[31]. В XVII в., стал раскручиваться маховик политической нестабильности, когда, начиная с мятежа Зебжидовского, создавшего первую конфедерацию против короля (1606–1609 гг.), «политические фракции начали по любому поводу образовывать вооруженные конфедерации»[32], которые никогда не приводили к решению ни одной из важных проблем страны. Политическая жизнь переживала конституционный паралич, связанный с правом liberum veto. Страна покатилась по наклонной к финансовому краху и потере военной мощи. Даже успех короля Яна Собеского, который разбил турок под Веной (1683 г.), не смог ни изменить негативного развития событий, ни обуздать своеволия шляхты.
Социальная мобильность потеряла гибкость и росла лишь могущественная олигархия (магнатерия) внутри самой шляхты. Семьи магнатов Радзивиллов, Браницких, Чарторижских, Тышкевичей, Замойских, Любомирских, Сапег – «сосредоточили в своих руках большинство наследственных должностей и накопили земельные владения, превышавшие королевские угодья»[33]. Среди усиливавшейся нищеты магнаты вели пышную жизнь, соревнуясь друг с другом в роскоши. Скоро магнатерия сделалась объектом интриг иностранных государств, т. к. все знали, что верность магнатов Rzeczypospolitej весьма сомнительна[34].
Вслед за военным упадком, наступившим после Северной войны 1700–1721 гг., последовали неудачи в международных отношениях. Разделенная несогласиями Польша не могла противостоять ни Карлу XII, ни Петру I. Скоро над Польшей был установлен российский протекторат после битвы под Полтавой (1709 г.), который никогда более не ослабевал и былы положены основания тому периоду в истории Польши, в который она утратила последнюю суверенность. К 1717 г., по мнению польских историков, «была окончательно сломлена воля шляхетского сословия, и оно оказалось неспособным защитить исповедуемые им идеалы»[35]. Ситуация только усугублялась и к моменту смети Августа II в 1733 г. Польша переживала глубочайший кризис: «она была не способна не только действовать, но даже мыслить о собственном спасении. Казалось, что ее граждане были охвачены равнодушием и апатией ко всему, что не совпадало с их личными интересами»[36]. Но «самым ярким проявлением краха позиций Речи Посполитой в XVIII в. было исключение ее из активной европейской политики. Она не только не воспользовалась возможностью избавиться от угрозы со стороны Пруссии (1744, 1756 гг.) или выступить в качестве партнера и союзника России (1735–1736 гг.), но позволила, чтобы в Европе утвердилось стереотипное представление о Польше как стране, безнадежно погрязшей в анархии»[37].
При поддержке прусского короля Фридриха II императрица Екатерина II продвинула на польский престол Станислава Понятовского, своего бывшего возлюбленного, потратив изрядную сумму на подкуп магнатской шляхты. Это был ручной король. Россия контролировала все его действия[38]. Только создание польской шляхтой во главе с епископом Красиньским и семьей Пулавских Барской конфедерации (1768–1772 гг.) и поиски союза с Турцией и Францией для борьбы с Россией, привели к тому, что императрица Екатерина II стала склоняться заменить косвенный контроль над всей Польшей полным присоединением большей ее части к России[39]. По мнению польских историков: «Россия не сумела овладеть ситуацией и восстановить действенную систему протектората, а потому стала склоняться к прусской концепции разделов»[40].
Примечательно, что российская элита изначально не вынашивала замыслов по ликвидации Польской государственности. Речь Посполитая уже не играла сколько-нибудь важной роли в международной политике. До тех пор, «пока Понятовский сидел на польском троне, России не было нужды аннексировать польские земли. Достаточно было протектората»[41]. Перед Екатериной II стояли совсем другие внешнеполитические задачи, а польское направление считалось второстепенным. До 1768 г. имперские власти во внешней политике руководствовались концепцией «северного аккорда», предложенной графом Н.И. Паниным, предполагавшей обеспечить «покой севера» путем союза с «северными» государствами – Англией, Пруссией, Польшей, Данией и Швецией[42]. По мнению А.С. Медякова: «В целом «северный аккорд» играл стабилизирующую роль в регионе, освобождал руки России для более активной турецкой политики»[43].
По мнению российского дипломата П.В. Стегния, «Речь Посполитая в условиях, когда во второй половине XVIII века потенциальная угроза со стороны центрального и северного звеньев «Восточного барьера» была уже значительно ослаблена, являясь для Екатерины II, в отличие, скажем, от короля Пруссии, не столько главным объектом, сколько плацдармом для проведения политики, основной вектор и функции которой имели юго-западное, черноморско-балканское направление и были связаны как со стратегическими замыслами императрицы, так и с ее стремлением стимулировать торговлю южных районов России»[44]. Но опасение, что аморфная и лишенная витальности Польша могла стать трофеем «вероятных противников» в лице Пруссии и Австрии заставила императрицу перейти к более решительным действиям. Разгром Барской конфедерации, Русско-турецкая война 1768–1774 гг. создали условия для разделов Польши. Сама названная война, по мнению русского историка А.Г. Брикнера, во многом была следствием польских смут[45].
Вынужденное приобретение, привело к тому, что Россия получила «Польский вопрос», ставший источником не только внешнеполитических проблем, но и затянувшимся на долгие десятилетия внутренним конфликтом, которому не было найдено положительного решения вплоть до 1918 г. На неопределенный срок выдвигалась на повестку дня задача по превращению не склонной к конструктиву польской ясновельможной шляхты в законопослушных подданных империи.
Стремясь вернуть суверенный статус Речи Посполитой, польские патриоты готовы были жертвовать своими жизнями ради этой цели, но оказались неспособны к объединению. Социальные, конфессиональные и этнические противоречия продолжали раздирать их польское общество многие годы. Ненависть к России становилась важным элементом консолидирующей идеологии, позволявшим несколько смягчать имеющиеся разногласия[46]. Попытки при помощи иноземных держав вернуть им контроль над собственной страной, могли сделать Польшу плацдармом для антироссийской агрессии, порождая ответную жесткую реакцию со стороны Петербурга[47].
Британский премьер Питт предложил идею федеральной системы, «объединяющей все страны северной части Европы против растущей мощи России, – эта идея могла бы спасти Польшу»[48], но не была реализована и вскоре совсем забыта уже потому, что Великобритания была озабочена другими более близкими проблемами – последствиями Французской революции 1789–1793 гг., а также усилением позиций России в Средиземноморье после победоносных войн над османами.
Тем не менее поляки-инсургенты, используя принцип: «враг моего врага ‒ мой друг», искали малейшую возможность навредить России. В арсенале их средств борьбы с Россией совершенно серьезно рассматривались горцы Кавказа как сила, способная спровоцировать беспорядки внутри империи, и в конечном итоге содействовать крушению ненавистного полякам государства-конкурента.
Значение Кавказа для интересов Российской империи в исследуемый период нуждается в пояснении, т. к. часто среди критически настроенного к России политикума, производилось сведение всей проблемы к исключительно колониально-экономическим или геостратегическим приоритетам, что далеко от истины. Как раз хозяйственное освоение региона представлялось при ближайшем рассмотрении малопродуктивной задачей, в силу отсутствия информации об имеющихся здесь природных богатствах. Подтвержденные в наличии полезные ископаемые были сложны в разработке, а самое главное ‒ отсутствовали развитые транспортные коммуникации, которые позволили бы вывозить их за пределы края.
Гипотетический вариант, связанный со строительством здесь соответствующей промышленной базы, воплотить в жизнь было невозможно. Сил и средств в казне для этого не было, а привлечь частный капитал у правительства не получалось, т. к. повышенные военно-политические и экономические риски отпугивали от Кавказа потенциальных инвесторов. Кроме того, в стране и без того было немало привлекательных объектов для финансовых вложений, суливших выгоду без чрезмерной опасности потери денежных средств.
В этой связи представляют интерес те пояснения, которые дал министру финансов графу Е.Ф. Канкрину один из наиболее осведомленных в кавказских реалиях российский генерал А.А. Вельяминов: «Вам известно, что до сих пор в Кавказской области мануфактурная промышленность, можно сказать, не существует. Главные этому причины состоят, кажется, в недостатке капиталов, в недостатке людей образованных, имеющих хотя порядочные сведения в механике и химии, в недостатке сообщений. Всякое мануфактурное заведение требует капитала более или менее значительного»[49]. Всех перечисленных составляющих в Кавказской области не было. Местное купечество, охарактеризованное как «малочисленное», не имело серьезных капиталов и предпочитало зарабатывать на торговле, обеспечивающей быстрый оборот вложенных средств. Потому вкладываться в создание мануфактурного производства желающих не было найдено.
Этим круг проблем не ограничивался: «Недостаток образования и сведений, необходимых для производства мануфактурных работ, есть вторая причина, препятствующая до сих пор введению мануфактурной промышленности в Кавказской области»[50]. Дефицит таких профессионалов ощущался во всей империи. Для беспокойной окраины, каким в ту пору был Кавказ, это становилось еще более непосильной задачей. Расчет на то, что предприниматель, сам не обладая должными компетенциями, сумеет найти грамотного управляющего, содержал значительные риски. Генерал А.А. Вельяминов подчеркивал: «Каким образом человек, не подозревающий, что такое механика, может судить о способностях того, кто будет управлять в заведении его по части механической? Как может он судить, что предполагаемая механиком его машина наиболее соответствует той степени совершенства в произведениях его, которая нужна для успешнейшего сбыта товаров?»[51].
Продолжая разбор тех препятствий, которые не позволяли надеяться на успешное развитие промышленного потенциала края, А.А. Вельяминов вновь поднимал тему недостатка путей сообщений. По его словам, это «одна из главных причин, препятствующих введению в Кавказской области мануфактурной промышленности. Удобные сообщения нужны не только для вывоза мануфактурных произведений, которые не могут быть проданы в области, но и для привоза различных мануфактурных потребностей»[52].
На Кавказе сама природа выступала противником человеческих усилий. При существующем тогда уровне технического прогресса единственным выходом было использование водных коммуникаций. Однако «область отделена от внутренних губерний не только большими расстояниями, но и степями. Волга и Дон облегчают сообщения ее, но мало. Берег Каспийского моря от Астрахани до Баку нигде не представляет удобной пристани. Исключая Кизляра, который лежит недалеко от моря, прочие города Кавказской области отделены значительными расстояниями…»[53], как от морей, так и от судоходных рек.
Наконец ощущался дефицит рабочих рук, что приводило к значительному удорожанию их найма. Примечательно, что привлечение на мануфактуры работников из числа горцев даже не рассматривалось. Дело состояло не в предвзятости к ним генерала Вельяминова, а в мотивации и готовности самих кавказских аборигенов. Архаичные общественные отношения, иммунность к предлагаемым извне новациям, доминирование милитарных ценностей с присущим им увлечением «престижной экономикой» в виде набегового промысла ‒ все это осложняло привлечение и использование местных трудовых ресурсов, к тому же не обладавших необходимыми навыками для участия в промышленном производстве[54].
Таким образом, внутренний потенциал края не позволял рассчитывать на развитие здесь новых отраслей, а потому предложения А.А. Вельяминова были связаны с тем, «чтобы обратить на эту землю внимание капиталистов, торгующих в столицах и во внутренних губерниях»[55]. Привлекать их предполагалось за счет всевозможных иммунитетов и привилегий со стороны правительства, но даже щедрые посулы не убеждали владельцев крупного капитала рисковать им в «стреляющем» регионе. Кавказ не походил на территорию колониального грабежа, а являлся скорее «бездонной бочкой» для российской казны[56]. Хронический дефицит местного бюджета покрывался за счет других, преимущественно внутренних губерний империи[57].
Достаточно быстро развеялись мечты о несметных богатствах кладовых кавказских недр. Даже в Закавказских владениях, казавшихся источником наполнения внутреннего рынка страны колониальными товарами, доходы не покрывали затрат бюджета[58]. Значительная часть полезных ископаемых была попросту не нужна российской промышленности в доиндустриальную эпоху.
В монографии историка Н.И. Покровского встречается категоричное утверждение, что «самодержавие пришло на Кавказ с двумя задачами: захватить для русского помещика плодородные кавказские земли и обеспечить русскому купцу обладание торговыми путями»[59]. Но даже если согласиться с подобным выводом, следует разобраться, насколько это нужно было самим представителям указанных сословий, ради которых все это, по мнению исследователя, и затевалось. Сам автор писал, что «помещики жадно бросались на Северо-Кавказскую степь, расхватывали ее»[60]. Но одновременно он цитировал источник, датируемый 1860 г., гласивший, что застой в развитии местной промышленности «должно считать отсутствие в крае помещиков»[61]. Щедрые раздачи земли, как оказалось, не являлись показателем колониальной эксплуатации и выглядели подобно экономическим «веригам», вкладываться в которые землевладельцы не спешили. Н.И. Покровский обращал внимание, что наиболее крупные раздачи земель практиковались во второй половине XVIII в. ‒ «в эпоху, предшествующую началу мюридизма»[62].
Видимо, это должно было объяснить причину вооруженного противостояния между частью горского общества и российской властью. Но приводимые им примеры были связаны преимущественно со степной частью края, которая не была охвачена упомянутым протестным движением, а народы, наиболее активно проявившие себя в газавате, никогда на этих землях не проживали[63].
Чтобы заселить новое пограничье, власти вынуждены были идти на весьма затратные шаги, обеспечивая переселенцев необходимыми ресурсами и предоставляя всевозможное финансовое вспомоществование. Но даже это не спасало их от большого количества жизненных тягот и высокой смертности, а Кавказ приобретал сомнительную славу «погибельного» даже без учета не прекращающихся там военных действий[64].
Неслучайно в среде переселенцев рождались песни, в которых здешние места никак не напоминали «подрайскую землицу»:
Ты зачем, мой друг, стремишьсяНа тот погибельный Кавказ,Ты оттоль не возвратишься, – Говорит мне томный глас[65].Российский социолог и культуролог Н.Я. Данилевский, вообще считал южный вектор колонизации наименее привлекательным для российского крестьянства, крайне тяжело адаптировавшегося к местным условиям. Он утверждал, что «Юг для народов севера имеет в себе что-то убийственное. Возьмите для примера хоть поселение русских на Кавказе. К благословенным ли странам Кавказа стремится русский народ, предоставленной к своей собственной воле? Нет, для него Сибирь имеет несравненно более привлекательности»[66].
Можно найти примеры, не соответствующие такому выводу, но многочисленные жертвы среди колонистов не позволяют отказать автору в справедливости его точки зрения. Тем не менее власти настойчиво продолжали осуществлять колонизационную экспансию, сознавая, что без нее не смогут рассчитывать на быстрое экономическое и социально-культурное развитие стратегически важного региона[67].
Даже тогда, когда было сломлено сопротивление «немирных» горцев, а значительная часть наиболее непримиримых противников русской власти предпочла эмигрировать в Турцию, процесс освоения новых земель славянским элементов шел с большим трудом. Волею правительства эти люди попали в совершенно чуждую для их хозяйственного уклада обстановку: «Кругом – горы, дремучий лес и море, все незнакомые картины для степняков. Что им делать? Стали они “робить” хаты и балаганы по низменностям около речек, где никогда не селились черкесы, занимая жилищами своими возвышенности над низинами, в которых они разводили сады и разрабатывали поля. Русские, напротив, поставили хаты в самых низких местах, ниже даже уровня моря, и, разумеется, enmasse заболели лихорадками. Священники и фельдшера пригодились, действительно, очень скоро: одни лечили, другие хоронили, ибо лихорадки при таких условиях выражались осложнениями, которые вели в могилу»[68].
Иллюстрацией происходившего могут выступить впечатления одного из путешественников, посетившего Черноморское побережье Кавказа и испытавшего на себе все сомнительные «удобства», встретившиеся ему в пути. Отсутствие сухопутных дорог заставило его воспользоваться морским транспортом, но тот далеко не везде мог пристать к суше. Он стал свидетелем того, как пассажиры не смогли высадиться в Сочи, о чем поведал, что такие «приключения» являются обычным делом, и порой неделями люди вынуждены дожидаться благоприятных обстоятельств, бесцельно бороздя прибрежные воды, прежде чем судно приставало в нужном порту[69].
Не менее пессимистичными были его впечатления о Сухум-кале: «Говорят, что Сухум-кале – рай земной. Может быть, по климату и окрестностям, для больных грудными болезнями это и справедливо, но самый городок произвел на нас впечатление грязного местечка. Восточный город сказался сразу с того момента, как мы вступили на его землю. Нас окружила толпа носильщиков, едва понимавших по-русски, и между ними не было ни одного русского. Рабочий люд, ищущий заработка, состоит здесь из турок, мингрельцев, имеретин, греков, грузин, армян. Вся эта разношерстная толпа, довольно обтрепанная, высыпала на берег. Заселение русским элементом этого города, взятого нами у турок, под владычеством которых он находился до 1856 года, подвигается весьма медленно. Впрочем, это явление сказывается повсеместно в наших окраинах, отвоеванных у восточных и азиатских народов…»[70].
Еще хуже дело обстояло в горных районах Северо-Восточного Кавказа, которые так и не смогли колонизоваться русскими людьми. Полной неудачей закончилась попытка великого князя Михаила Николаевича Романова организовать слободы на Гунибе и в Карадахе. Наместник добился щедрого финансирования переселенцев, но найти необходимого количества желающих обосноваться в непривычных ландшафтно-климатических условиях в окружении народов, совсем недавно с оружием в руках, выступавших против властей, оказалось затруднительно. Из запланированных 250 семейств удалось склонить к переезду лишь 46. Задуманный в 1868 г. проект был свернут уже в 1874 г. поселенные в горах немногочисленные колонисты не только не стали действенной поддержкой для военных гарнизонов, расположенных там укреплений, но сделались дополнительной обузой, от которой предпочли поскорее избавиться. Социально-экономические интересы в присоединении новых территорий никак не оправдывали тех затрат и издержек, которые несла империя на своем новоприобретенном фронтире. Если бы проблема заключалась исключительно в получении хозяйственной выгоды, то потраченные на Кавказе людские и материальные ресурсы принесли бы куда большую пользу в Южной Сибири, Поволжье и Новороссии[71].