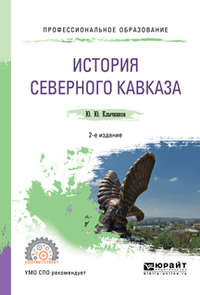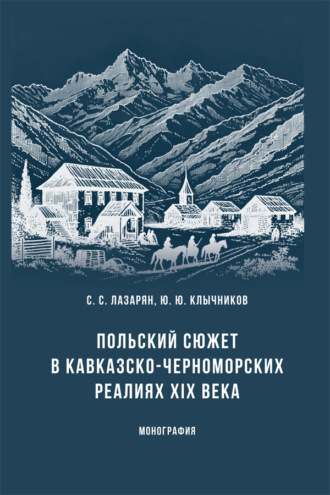
Полная версия
Польский сюжет в кавказско-черноморских реалиях XIX века
Не меньшее значение в качестве одного из центров перевалки людей, настроенных враждебно к русским, в 1830–1840-е годы имел Трапезунд. Там останавливались многочисленные группы черкесов и абхазов, направлявшихся в османскую столицу или возвращавшихся оттуда обратно. Трапезунд был также площадкой, куда съезжались работорговцы со своим живым товаром, который частично распродавался на месте, а частью переправлялся на другие рынки Востока. Там же собирались европейские авантюристы, нанимавшиеся на рискованные предприятия, направленные против России. Агенты европейских держав собирали там нужную им разведывательную информацию, а французский консул Клерамбо (Clérambault) тайно переправлял в Константинополь польских дезертиров из Кавказской армии[167].
На пограничные территории приезжал в 1836 г. генерал бывшей Польской армии Войцех Хржановский (Wojciech Chrzanowski) вместе с польскими офицерами Заблоцким (Zabłocki) и Пангловским (Pangłowski), где они старались склонить к дезертирству военнослужащих Российской армии польского происхождения[168]. В том же году в черкесские горы направлялась миссия майора Мариана Бржозовского (Marian Brzozowski) с заданием создать «подобие регулярной армии» из перебежавших от русских польских дезертиров и черкесов. В 1841–1844 гг. непокорных черкесов инструктировали в военных науках агенты Александер Верешинский (Aleksander Wereszyński), Людвик Зверковский (Ludwik Zwierkowski), Казимеж Гордон (Kazimierz Gordon)[169].
В 1840-е годы А. Чарторыйский замышлял создать на Кавказе грандиозный антироссийский союз из разнородных этнических групп. «У черкесов при помощи поляков, малороссов, линейных, донских, волжских и томских казаков, которые как народ рыцарский, тоже не приминут стряхнуть с себя петербургское иго, Кавказ освободиться, и деспотизму москалей на юге будет положен прочный предел»[170]. Также план предусматривал наступление союза антирусских сил: горцев – по Волге, донских казаков – по Дону и Воронежу на Тулу и Москву с параллельным и одновременным всеобщим восстанием Украины, куда должны были направиться черноморские казаки и контингенты войск, созданных из польских дезертиров Кавказской армии[171].
Как отмечала С.М. Фалькович: «Отель Ламбер тратил большие средства на пропаганду идеи освобождения Польши от власти царизма»[172] и стремился через своих агентов заразить ею кавказских горцев наряду со всеми теми, кого там считали потенциальными неприятелями русских. Эта польская сосредоточенность на собственной Idee Fix, не позволила им видеть и просчитать ситуацию, не впадая в иллюзии.
Все эти и иные усилия не имели большого успеха. Майор Бржозовский вообще не добрался до Черкесии, а Людвик Зверковский получил предательскую пулю в живот, был эвакуирован и скончался от ранения в Швейцарии. Казимеж Гордон в горах постоянно конфликтовал с убыхами из-за своего неуживчивого характера и непреодолимой подозрительности со стороны горцев[173]. Он был убит неустановленными лицами.
Не снискала большого успеха и миссия Адама Высоцкого (Adam Wysocki), доставившего черкесам машины и механизмы «для делания пороха». Химера А. Чарторыйского развеялась как дым при столкновении с реальностью, а М. Чайковский (Czajkowski) стал сильно сомневаться в необходимости союзничества поляков с черкесами, поскольку те «…готовы совершать набеги и разбои в соседних русских поселениях, но их никогда нельзя будет убедить двинуться на Россию, подобно Батыю, чтобы подать руку помощи полякам…»[174].
Кроме того, многие из поляков, съехавшихся в Константинополь, были настроены против легионов, которые формировал М. Чайковский, обзывали их ослами. Среди наиболее злых хулителей были Бржозовский, Мильковский (Miłkowski), Ширманский (Szirmański), а Калинка (Kalinka) и Иордан (Jordan) настраивали против Чайковского польские клубы и комитеты, бывшие в Константинополе, пытаясь повлиять на польскую молодежь[175].
Даже непримиримая к усилиям России на Кавказе Англия, вынуждена была искать новые подходы, поскольку сотрудничество с турками не только не приносило желаемого результата Лондону, но использовалось союзниками для укрепления, прежде всего, турецких позиций в регионе, которые «были полны решимости восстановить свою власть в Черкесии»[176].
С другой стороны, действия английских, турецких и польских эмиссаров, направленных на усиление среди кавказских горцев враждебности к России, попытки объединения и направление в солидарное русло антирусской борьбы, заставило самих русских действовать более изобретательно и вариативно – разрушать основания ненависти к себе и предлагать позитивные для горских жителей способы сосуществования. Это отметил польский исследователь Людвик Видершаль (Ludwik Widerszal), когда указал на то, что «Россия стала шире пользоваться методами социального лавирования»[177], что способствовало росту примирительных настроений среди черкесов, особенно среди натухайцев и шапсугов[178].
Российские власти также серьезно относились к любой информации, связанной с пребыванием на Кавказе или направлявшихся туда подозревавшихся в злоумышлении против России поляков. Из Петербурга приходили в регион циркулярные предписания о розыске таких злоумышленников. В Кавказской Области и станицах Кавказского линейного казачьего войска в 1838 г. городскими и земскими полициями активно разыскивали польского выходца Иосифа Дыбовского (Józef Dybowski), участника революционной организации и пропаганды Шимона Конарского (Szymon Konarski). Этот Дыбовский «в исполнение своих злонамеренных замыслов» разъезжал с революционной пропагандой под вымышленными именами и направился на Кавказ[179]. В предписании сообщались приметы разыскиваемого: росту среднего, сухощав, волосы темно-русые и когда скоро и с жаром говорит, то часто заикается[180]. Злоумышленника не нашли: или он был непревзойденный конспиратор, или у страха – глаза велики.
В 1839 г. по предписанию МВД снова все окружные кавказские начальники разыскивали поляков Райковского (Raikowski) и Цыбульского (Cybulski), которые укрывались под именами Жофруа и Годара[181]. Их также не нашли. Но в декабре того же года уже разыскивался рядовой Винцентий Мигурский (Wincenty Migurski), бежавший из Оренбургского линейного № 1 батальона. Для властей этот человек казался очень опасным, поскольку участвовал ранее в «польском мятеже». Означенный Мигурский был пойман в Саратовской губернии.
Таким образом, совместные усилия и планы противников российского присутствия на Кавказе, не смогли реализоваться в полном объеме, хотя имели определенный результат – способствовали продлению горского сопротивления. Европейским агентам, а равно и турецким эмиссарам, не удалось сплотить горцев ненавистью и направить ее разрушительную силу в целенаправленное русло, ведущее к сокрушению Российского государства. Европейские политики также не сумели преодолеть горской подозрительности к чужакам, поскольку намеревались использовать черкесов и даже поляков в своих собственных интересах, не считаясь с их устремлениями. Черкесы лишились иллюзий, связанных с обещаниями турок и европейцев подать им реальную военную помощь, «и это разочарование очень сильно повлияло на развитие событий на Кавказе во время кампаний 1853–1856 гг.»[182]. Россия же приобрела новый опыт и научилась большей вариативности в своих действиях, хотя не сумела избежать больших издержек в людях и материальных средствах.
Глава 2
Поляки на Кавказе
2.1. Обстоятельства появления поляков в крае
Пытаясь выяснить хотя бы примерное количество людей, имевших польские корни, ставших участниками событий XIX века на Кавказе, авторы столкнулись с проблемой поиска источников соответствующей информации. В имеющихся на сегодняшний день исследованиях недостаточно обращалось внимания на этнический состав кавказских войск или флотских экипажей Черноморского флота, состав чиновнического контингента и всех других социальных групп, формировавших социокультурный облик русского Кавказа. Отдельные упоминания или примеры не меняют общей картины.
В этом не было ничего противоестественного, поскольку для многонародной страны, какой была Российская империя, этническое происхождение подданных Российского императора не играло заметной роли в системе общественной социализации и статусности, уступая место социальному происхождению и вероисповедальной идентичности. Другим сплачивавшим началом выступала идея и практика монархизма и верноподданничества. Империя как система разнородного универсализма насыщала социентальными смыслами все пространства бытия имперского социума, оставляя этничность традиции, реализующейся в повседневности семейно-родовых отношений.
В то же время нельзя сказать, что этой проблемы не касались вовсе. В публикациях, посвященных Кавказу XIX в., всегда так или иначе упоминаются имена и фамилии бывших там поляков, но мало кто пытался составить их списочный перечень или произвести подсчет количества польских имен, связанных с теми или иными обстоятельствами жизни кавказского края.
Важным источником установления этнического происхождения могут быть формулярные списки военнослужащих или чиновников, но и они не дают полной информации, т. к. там отсутствуют указания национальной принадлежности, поскольку в XIX веке в первую очередь уделялось внимание социальному происхождению и подданству. Фамилия лишь отсылала к родовой принадлежности, но в случаях перехода в православие или длительного проживания в России и ассимиляции, она переставала соответствовать первоначальным родовым корням[183].
Весьма трудно идентифицировать национальную принадлежность людей с фамилиями, имеющими полонизированные окончания «-ий» или «-ич»[184] (Скаловский или Юркевич), если отсутствует прямое указание на этническое происхождение, вероисповедание или место рождения. Немалые трудности возникают также из-за традиции того времени записывать иностранные имена в российской адаптации и интерпретации (Юзеф – Иосиф; Франц – Федор, Анджей – Андрей и т. д.). В этой связи приходиться опираться на аналогию, а кроме того, искать подсказку в родовой истории того или иного персонажа. Например, Иван Васильевич Гудович (1741–1820), находившийся в военной службе с 1759 г. и возведенный в графское достоинство в 1797 г., имел польские корни, т. к линия его рода происходила от выехавшего в 1680 г. в Россию из Польши Павла Станислава Гудовича[185]. В 1790 г. И.В. Гудович был назначен на Кавказ командовать Кавказским корпусом и оставался там до 1798 г.
Обстоятельства появления поляков в крае связаны сразу с несколькими эпохальными событиями. Отдельные представители с польской родословной стали обнаруживаться и упоминаться среди членов российского общества в ходе разделов Речи Посполитой. Часть польской элиты добровольно или под давлением внешних сил решила связать свое существование с Россией и заполнила имевшиеся ниши при дворе российской императрицы. Многие сохранили свои дворянские (шляхетские) титулы, состояния и обширные имения на территориях, ставших частью Российской империи – отдельные ветви родов Радзивиллов, Потоцких, Браницких, Любомирских и многих других.
Поляки появились среди офицеров императорской гвардии и армии. Определенное количество людей польского происхождения находилось в составе Горского и Белорусского егерских батальонов, направленных в Грузию после подписания Георгиевского трактата (1783 г.)[186]. В 1776 г. рядовым поступил на русскую службу Иван Данилович Курнатовский из белорусского шляхетства, и тогда же прибыл на Кавказ, где в 1783 г. был произведен в прапорщики. В 1791 г. участвовал во взятии крепости Анапа. Закончил службу генерал-майором, будучи управляющим Имеретии, где его сменил полковник Иван Онуфриевич Пузыревский, командир 44-го егерского полка, офицер отличного усердия, расторопный и деятельный, погибший в Гурии в 1820 г. – был предательски убит (застрелен) князем Кайхосро Гуриели[187]. Предки Пузыревского происходили из смоленского шляхетства с 1657 г. находившиеся на русской службе. В 1795 г. после разгрома восстания Т. Костюшко и третьего раздела Речи Посполитой очередная группа офицеров польского происхождения поступила на русскую службу и объявилась в составе войск Кавказской армии. Император Павел I образовал в 1797 г. из уроженцев польских губерний, присоединенных в минувшее царствование, два 10-эскадронных легкоконных полка. При императоре Александре I эти полки были наименованы уланскими и преобразованы на общих основаниях с прочими полками русской кавалерии.
Следующим эпохальным событием, встряхнувшим поляков, были Наполеоновские войны в Европе, возродившие среди большого числа польской шляхты надежду на воссоздание при содействии французов Речи Посполитой в границах 1772 г. В 1812 г. поляки массово стали пополнять французскую армию. Во время вторжения в Россию в различных французских корпусах поляков насчитывалось до 90 000 человек[188]. 28 июня 1812 г. Сейм, объявивший об образовании «Генеральной конфедерации Королевства Польского» во главе Адамом Казимежем Чарторыским, обратился с воззванием к полякам Литвы, Белоруссии и Украины, чтобы «разбудить» шляхту и поднять ее на борьбу с Россией. Однако настроения в литово-белорусских губерниях не оправдали ожиданий Наполеона и конфедерации – патриотической ажитации не случилось. Оставались непроясненными ни исход войны с Россией, ни будущий статус Польши. Люди выжидали и опасались гнева русских.
В декабре 1812 г. конфедерация провозгласила созыв «pospolitego ruszenia», но его не услышали. Вместо ожидавшихся 30 000 активистов собралось только 400 человек. Дело Наполеона и конфедерации было проиграно[189]. В русской кампании 1812 г. польские войска понесли большие потери, прикрывая отступление «Великой армии». Остатки польских войск, возглавлявшиеся Юзефом Понятовским, были почти полностью разгромлены в Лейпцигском сражении 1813 г., а командующий польским корпусом погиб, утонув в водах реки Эльстер. Шляхетская аристократия и шляхетская масса высказались за соглашение с императором Александром I, объявившим амнистию полякам, воевавшим против русских, и согласившегося признавать польский характер присоединенных к России земель[190].
За время войны в плен к русским попало по официальным данным 216 000 солдат и офицеров из бывшей 600-тысячной Наполеоновской армии, в которой находилось немало поляков[191]. В исследовательской литературе по этому поводу нет согласия. По подсчетам исследователя А.И. Попова в армии Наполеона в 1812 г. их было 74000 человек[192], но авторы 3-х томной «Истории Польши» называли цифру в 90 000 человек[193], а в польском учебнике для средней школы (szkoła ponadgimnazjalna)[194] – 98 000. В книге Е.М. Болтуновой – 120 000 человек, притом, что этот контингент, по ее мнению, был «одним из наиболее боеспособных и преданных Бонапарту»[195]. В книге А.Б. Широкорада указывается, что в 1812 г. Наполеон располагал в своих войсках 85 тысяч польских войск, а после вторжения в Литву призвал местных поляков вступать в его армию. В июле 1812 г. он приказал сформировать национальную гвардию, жандармов, гвардейский уланский полк, 4 пехотных и 5 кавалерийских полков. В общем в армии Наполеона собралось не менее 120 000 человек поляков[196].
Большое количество пленных создавало проблемы для российской казны, поскольку на содержание пленных генералов предполагалось выделять в сутки 3 рубля, для полковников и подполковников – по 1,5 рубля, для майоров – по 1 рублю, для обер-офицеров – по 53 копейки, для унтер-офицеров и рядовых – по 5 копеек. Помимо обозначенных сумм им выдавался провиант как русским солдатам[197]. Данного содержания было более чем достаточно для удовлетворения всех насущных потребностей с учетом дешевизны съестных и прочих припасов и товаров в России того времени, особенно в уездных городах, в которых чаще всего размещались военнопленные[198].
В сентябре 1812 г. главнокомандующий Российской армией Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов просил Военного министра князя Алексей Иванович Горчакова обратиться к императору по причине того, что «число пленных столь значительно, что во избежание скопления оных в большом количестве, не разсудите ли, Ваше С-ство, доложить Государю Императору, чтобы пленных поляков отсылать на Кавказскую линию, где и можно употребить их в полки на службу … Если на сие последует Высочайшее соизволение, то следовать будет из Петербурга предписать г. г. губернаторам тех губерний, где пленные находятся, для отсылки их в означенные места…»[199].
Озабоченность главнокомандующего с пониманием восприняли в столице империи, и 16 октября 1812 г. он был уведомлен о Высочайшем утверждении его предложений[200]. При этом в манифесте от 12 декабря 1812 г. пленным полякам, взятым с оружием в руках, император обещал, что «плен их разрешится окончанием настоящей войны … и они в свое время вступят в право Нашего всем и каждому прощения»[201].
Командующий Отдельным Грузинским корпусом генерал-лейтенант Николай Федорович Ртищев и командующий Кавказской линией генерал-майор Семен Андреевич Портнягин получили предписание о распределении пленных поляков между 19-й и 20-й пехотными дивизиями, которые дислоцировались в крае[202]. Комитет министров, также занимавшийся проблемами, связанными с пребыванием пленных на территории России, постановил «сократить казенные издержки на содержание пленных и доставить им более удобностей жизни»[203].
Л.М. Артамонова отмечает в связи с данной проблемой, что «реальное положение отдельных групп военнопленных и просто конкретных людей в местах содержания, прежде всего, определялись их отношениями с местной властью и населением. Это был ключевой аспект, позволявший «узникам войны» выжить, получить приемлемые условия быта и жизнедеятельности, обрести нормальное психологическое состояние и душевное равновесие»[204]. С точки зрения В.А. Бессонова: «Выдаваемые пленным деньги, провиант, предметы одежды и обуви не могли спасти их жизни, пока они непрерывно, в течение нескольких месяцев, шли на восток, теряя силы и умирая от эпидемических заболеваний»[205]. Местные губернские власти в отношении военнопленных наполеоновской армии сообразовывали свои действия с циркулярными предписаниями, которые они получали из Особенной канцелярии главнокомандующего в Санкт-Петербурге графа Сергея Кузьмича Вязьмитинова, возглавлявшего одновременно Министерство полиции, начиная с середины августа 1812 г. Военнопленные препровождались по различным трактам военными конвоями до мест назначения.
Поляки, отправляемые на Кавказ, первоначально собирались в г. Георгиевске, а уже оттуда направлялись к непосредственным местам прохождения их новой службы. Среди них были не только нижние чины, но также офицеры и даже генералы, которым предстояло под новыми знаменами заниматься своей профессиональной деятельностью[206]. Благодаря такому притоку новых сил в Кавказскую армию, у Военного ведомства империи появлялась возможность компенсировать потери Главной армии, действовавшей против французов, русскими рекрутами[207].
В первых числах января 1813 г. из г. Вятки отправлялась партия военнопленных поляков, состоявшая из 75 человек, которую должны были препровождать от уезда к уезду и сдавать друг другу военные начальники конвоев. В случае недостатка военных по распоряжению губернского начальства партии пленных поляков препровождали гражданские чиновники, нанимая обывательские подводы для движения от селения к селению, согласно установленным маршрутам. При движении военнопленные обеспечивались провиантом из расчета на каждых 12 человек, размещавшихся на одной подводе. Под больных (если таковые случались) выделялись по одной подводе на 2-х человек заболевших. На границах губерний военнопленных принимали и препровождали далее по указанному маршрутному направлению местные уполномоченные начальники. В данном случае пленные поляки следовали из г. Вятки до г. Георгиевска через г. Казань. В маршрутном предписании имелся перечень всех населенных пунктов, через которые должны были проследовать конвои с указанием расстояния между ними и времени в пути[208].
В то же время, отправка пленных поляков на Кавказ постоянно откладывалась. Запрет на отправку пленных был связан с тем, что в декабре 1812 г. на территориях губерний, которые принимали пленных, стали обнаруживаться эпидемические заболевания, вследствие чего большое число местных жителей, заразились «прилипчивыми» болезнями от пленных. 16 декабря 1812 г. Медицинский департамент Министерства полиции направил циркулярное предписание графа С.К. Вязьмитинова губернаторам «с требованием оградить жителей от больных военнопленных и принять меры к ограничению распространения повальных болезней, возникающих от пленных и неубранных мертвых тел»[209].
Потому движение партионных команд военнопленных в назначенные губернии задерживалось на прежних местах «до того времени, пока они совершенно оправятся» от болезней[210]. В январе 1813 г. последовало повторное предписание с требованием остановить отправку военнопленных. Это вызывалось тем, что циркулярные распоряжения не успели вовремя довести до сведения всех, кого это касалось. По этой же причине первая партия военнопленных поляков из 19 человек прибыла в г. Георгиевск в конце января 1813 года. Офицеров разместили на жительство под надзором в домах обывателей, а нижних чинов определили в военнорабочие команды. По отсутствию дров, необходимых для обогрева людей, на первое время их взяли из садовых огородов близлежащей станицы, а 27 января генерал-майор Иван Петрович Дельпоццо, командовавший войсками на Кавказской линии, купил 5 сажен дров для всех находившихся на «открытом воздухе»[211].
Кроме того, командующий войсками на Кавказской линии обращался к Кавказскому гражданскому губернатору Марку Леонтьевичу Малинскому, опираясь на предписание Комиссариатского департамента, и просил озаботиться тем, чтобы все больные из проходящих воинских команд, «для содержания и пользования должны быть отдаваемы в больницы от приказов Общественного призрения, или в городские лазареты»[212]. Обращение генерал-майора И.П. Дельпоццо было вызвано беспокойством из-за постоянного роста заболевших, бывших в Кизляре и Моздоке в большом количестве. Особенно его беспокоила ситуация, складывавшаяся в Кизлярском поселении, где военнопленные работали на укреплении берегов реки Терек и где их насчитывалось более 100 человек. Находившиеся там гарнизонные лазареты уже не имели мест для размещения новых заболевших.
На обращение генерала по поручению М.Л. Малинского отвечала комиссия Дмитриевского комиссариатского депо, которая, исследовав проблему относительно снабжения поступавших в астраханский полковой лазарет от разных проходящих команд больных нижних чинов и снабжении их всеми нужными для них потребностями, которые получались от Военного министерства и Комиссариатского департамента по предписанию от 30 апреля 1813 г., постановила, основываясь на Высочайшем повелении, отправлять оставленных в губернии из-за болезни воинские чины в больницы от приказов Общественного призрения заведенные или в городские лазареты гражданского ведомства беспрепятственно[213].
Кавказская казенная палата предписала Кизлярскому казначейству отпускать на содержание таких больных по 5 копеек в день или «сколько будет следовать в тамошний лазарет»[214]. Но механизмы машины казенного ведомства вращались медленно, несмотря на получаемые предписания. Это вынудило кизлярского коменданта подполковника Казмина отнестись с жалобой к Кавказскому гражданскому губернатору на то, что «никакого еще разрешения не последовало и больные пришли в совершенное изнурение от того, что не имеют должного содержания и пищи, кроме получаемого провианта, но по неимению дров не могут печь хлеба и варить каш, лежали в холодных без отопления покоях»[215], а отпускаемая на военнопленных поляков, находящихся в лазаретах, сумма, которая по госпитальному положению издерживается на необходимые потребности, совершенно недостаточна. В таких условиях ежедневно из числа военнопленных умирали по 2–3 человека[216]. Дело сдвинулось в лучшую сторону только после того, как из Военного ведомства последовало строгое предписание Кавказскому гражданскому губернатору, чтобы Кавказская казенная палата отпускала потребные для содержания больных военнопленных из поляков, оставляемых различными командами в госпиталях «за болезнью», потребных лазаретных вещей, одежды, посуды и денег[217].
Следующая партия военнопленных поляков добралась до г. Георгиевска в начале марта 1813 г. В ноябре того же года из Харькова через г. Ставрополь проследовала партия военнопленных, численностью в 284 человека в сопровождении штабс-капитана Довбни и конвойной команды Витебского гарнизонного батальона, состоящей из 1 унтер-офицера, 10 рядовых и 18 человек воинов из ополчения[218]. Штабс-капитан Довбня сообщал Ставропольской градской полиции о прибытии в г. Ставрополь своего конвоя с партией военнопленных поляков 11 ноября 1813 г. и просил озаботиться приготовить соответствующее число квартир под состоящее у него число людей, приготовить 28 обывательских подвод, а также прислать 2 лошади с проводником для себя и передового, «имеющего отправиться прежде для занятия квартир»[219].