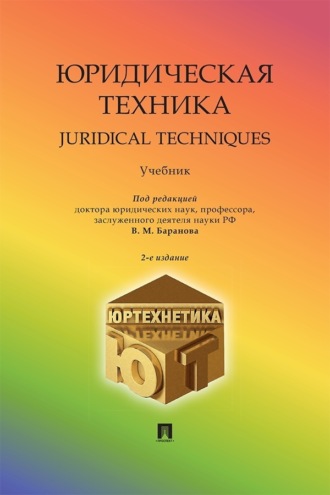
Полная версия
Юридическая техника. Juridical Techniques. Учебник
Так писал И. Кант: «Когда нужно представить какое-нибудь познание как науку, то, прежде всего, должно в точности определить ту отличительную особенность, которую оно не разделяет ни с каким другим познанием и которая, таким образом, исключительно ему свойственна; в противном случае границы всех наук сольются, и ни одну из них нельзя будет основательно изложить сообразно с ее природой»[7]. Целый ряд отличительных особенностей имеется и у предмета науки «юридическая техника».
Предмет науки «юридическая техника» – некий суммарный феномен, который образовался на стыке, пересечении многих научных дисциплин. Общий статус юридической техники можно определить как организационно-управленческую гуманитарную научную дисциплину, имеющую интегральный характер.
По мнению коллектива ученых Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, «технико-юридический инструментарий – важная составляющая так называемых „метатеорий“ (теории правотворчества, теории толкования, теории правоприменения и др.), а не отдельная отрасль научного знания»[8]. Такой подход представляет собой возврат в прошлое и не учитывает в полной мере качественные интегративные процессы развития техники правотворчества, интерпретации и реализации. Кстати, логика, уровни и результаты исследования нормотворческой юридической техники, представленные авторами одноименной книги, свидетельствуют о существовании не «зачаточного состояния» науки «Юридическая техника», а цельной, относительно самостоятельной, активно функционирующей отрасли гуманитарного знания.
Понятие юридической техники входит в категориальный аппарат европейской юридической науки на рубеже XIX – ХX вв. на волне популярности юридического позитивизма, привлекшего внимание исследователей к вопросам языка права, качества законодательных текстов, другим технико-юридическим проблемам и ставшего теоретической базой формирования и исследования самого понятия юридической техники.
Особенности континентальной правовой семьи обусловили тот факт, что теоретические исследования в данной области первоначально касались преимущественно техники законодательной.
Предпосылками формирования теории правотворческой техники были многочисленные идеи о качестве законов, требованиях, предъявляемых к ним, и правилах их создания, встречающиеся в трудах Платона, Аристотеля, М. Т. Цицерона, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье, Ч. Беккариа, Ф. Бэкона, Г. В. Ф. Гегеля, И. Бентама. Последнего иногда называют основоположником теории законодательной техники, ведь именно он предложил создать номографию – науку о законодательном искусстве[9]. В XIX в. работы по юридической технике издаются в Германии (Р. Иеринг, А. Вах), в Швейцарии (К. Штосс), во Франции (Ф. Жени), в Англии (К. Ильберт). Данная проблематика освещается также в работах Р. Штаммлера, Л. Гюнтера, Г. Еллинека. Значительное внимание, уделяемое в литературе проблемам юридической техники, обусловило формирование нескольких различных подходов к ее исследованию. По классификации бельгийского ученого Ж. Дабена, в западноевропейской науке выделяются пять основных подходов к решению вопроса о сущности и назначении юридической техники[10].
Первый подход (И. Колер, Ж. Рипер) состоит в противопоставлении юридической техники и юридической науки. Наука изучает абстрактные принципы, а техника – это искусство воплощения этих принципов в жизнь через правотворчество, толкование и судопроизводство (правоприменение).
Второй подход (Р. Штаммлер, Р. Салейль) видит назначение юридической техники в развитии правовых концепций и в логической систематизации правовых норм. Таким образом, понятие юридической техники охватывает и юридическую науку, и юридическую практику.
Третий подход (Л. Дюги, Р. Демог) сопоставляет юридическую технику не с наукой или практикой, а с самим правом. Юридическая техника рассматривается как совокупность средств и процедур, призванных обеспечить реализацию целей права, его защиту. Технические (вспомогательные) нормы обеспечивают осуществление основных правовых норм.
Четвертый подход (Р. Иеринг, Ф. Жени) связывает юридическую технику с потребностями общества. В ней видится средство перевода социальных потребностей на язык права, средство создания норм, необходимых для поддержания порядка в обществе. Сама техника при таком подходе отождествляется с формой права, которая противостоит содержанию, относительно самостоятельна от него и способна к саморазвитию.
Пятый подход (М. Ориу) построен на отрицании самой необходимости понятия юридической техники. Суть этой точки зрения состоит в том, что понятие юридической техники не адекватно важности и значимости права. Отождествление права и техники приводит к опошлению права.
В дореволюционной российской науке вопросы юридической техники вызывали значительный интерес. Их затрагивали в своих работах М. М. Сперанский[11], П. И. Люблинский[12], Б. Н. Чичерин[13], Г. Ф. Шершеневич[14], С. А. Муромцев[15], Г. С. Мэн[16], Д. И. Мейер[17], А. А. Башмаков[18], П. Д. Калмыков[19] и др. Значительное влияние на развитие теории юридической техники в России оказали публикации трудов западных юристов: Р. Иеринга[20], К. Ильберта[21], Ф. Жени[22]. В советском правоведении вопросы юридической техники стали разрабатываться во второй половине 1920-х гг. Абсолютное большинство работ (статей), изданных в 1920–1930 гг., было посвящено технике законотворчества (М. Винавер[23], М. Гродзинский[24], И. Елизаров[25], И. Перетерский[26] и другие) и проблемам языка закона (А. Луначарский[27], А. Лаптев[28], М. Презент[29], К. Равич[30] и другие). Вероятно, на этом этапе круг исследуемых проблем определялся не столько влиянием официальной доктрины, сколько практической необходимостью создания новой системы советского законодательства. Термин «юридическая техника» в этот период никем из авторов, за исключением Л. Успенского[31], не использовался[32].
В послевоенный период публикуются работы Л. И. Дембо, И. Л. Брауде[33], М. М. Гродзинского[34], Л. С. Явича[35], В. Н. Иванова[36]. Воздействие официальной идеологии на технико-правовые исследования на этом этапе становится более заметным. Говоря о законодательной технике, многие авторы подчеркивают, что она имеет классовое содержание, которое определяется сущностью соответствующего типа государства и права (Л. И. Дембо, Л. С. Явич). Сама техника рассматривается либо как уровень мастерства законодателя, степень совершенства законодательства (Л. С. Явич), либо как учение о законодательной системе, ее структуре и методах построения (Л. И. Дембо), совокупность правил, определяющих содержание закона и его место в системе законодательства (М. М. Гродзинский). Наиболее широкий подход к понятию законодательной техники в этот период предложил И. Л. Брауде. В его трактовке законодательная техника основывается на теории права, и правовая наука входит в законодательную технику как неотъемлемая часть. Техника должна решать такие вопросы, как классификация нормативных актов, разграничение отраслей права, способы и формы опубликования актов и т. п.
Все предлагавшиеся подходы имели своим предметом технику правотворчества, не затрагивая другие аспекты понятия юридической техники. В первую очередь это связано с господством позитивистской концепции правопонимания, которая предопределяла проблематику технико-юридических научных исследований на протяжении всего советского периода.
Новый (и по интенсивности технико-юридических исследований, и по содержательной их направленности) этап приходится на 60—80-е гг. XX в. Рассуждения о классовом характере юридической техники и ее обусловленности сущностью соответствующего типа государства и права в этот период уходят на второй план. В противоположность им обосновывается мысль о том, что средства и приемы юридической техники сами по себе не имеют классовой направленности и безразличны к общественным классам[37]. Именно этот взгляд получил наибольшее признание отечественных ученых[38], позволив вывести технико-юридические исследования из-под давления официальной идеологии.
Нужно сказать, что постулат о полной автономии вопросов юридической техники от идейного содержания правовых актов предполагал сведение юридической техники лишь к внешней формальной стороне права и тем самым существенно упрощал понятие юридической техники. Сегодня исследователи снова пришли к необходимости констатировать, что юридическая техника выполняет определенные идейно-политические функции, не являясь нейтральным идеологическим инструментом, потому что не только содержание правовой нормы, но и форма ее адекватно или дефектно отражают демократические либо тоталитарные начала, коллективистские либо индивидуалистические ценности, общегосударственные либо корпоративные интересы[39].
Но тогда констатация идеологической нейтральности юридической техники сыграла исключительно положительную роль, облегчив гнет официальной идеологии и обусловив огромную популярность «политически безопасной» технико-юридической проблематики[40].
Период 60–80-х гг. XX в. стал наиболее плодотворным в развитии советской теории юридической техники. Преимущественным направлением исследований по-прежнему оставалась законодательная техника, которая получила всестороннее освещение в трудах Д. А. Керимова[41], И. С. Самощенко[42], С. Н. Братуся[43], А. А. Ушакова[44], А. Нашиц[45], Л. Ф. Апт[46], С. В. Полениной[47], А. С. Пиголкина[48], Д. А. Ковачева[49], Ю. А. Тихомирова[50], Л. М. Бойко[51] и других авторов[52]. В этих работах законодательная техника чаще всего трактуется как совокупность правил, необходимых для совершенствования системы права или системы законодательства. В литературе высказывались предложения о создании самостоятельной и целостной отрасли правовой науки – номологии, или законоведения, т. е. теории совершенствования законодательства (Х. Рандалу, А. А. Ушаков).
Параллельно с этим изучению подвергались отдельные приемы и средства юридической техники: правовые аксиомы (Г. И. Манов, А. А. Ференс-Сороцкий), презумпции (В. К. Бабаев, В. А. Ойгензихт, З. М. Черниловский), юридические конструкции (А. Ф. Черданцев). Активно исследовались отдельные виды юридической деятельности: толкование права (А. С. Пиголкин, А. Ф. Черданцев, Н. Н. Вопленко, Т. Я. Хабриева), правоприменение (П. Е. Недбайло, В. В. Лазарев, В. Н. Карташов, И. Я. Дюрягин, Ю. С. Решетов), систематизация права (Д. А. Керимов, С. Н. Братусь, И. С. Самощенко). Все эти разработки создали научную основу современного понимания юридической техники.
«Забытое» понятие «юридическая техника» используют в рассматриваемый период немногие авторы. При этом далеко не все из тех, кто употреблял данный термин, акцентировали внимание на различиях между техникой юридической и законодательной. В этой связи следует особо отметить работы О. А. Красавчикова, который рассматривал юридическую технику в единстве трех видов: правотворческой, правоприменительной и правоосуществительной техники[53], а также С. С. Алексеева, выделившего два вида юридической техники: правотворческую и технику индивидуальных актов[54].
Развитие новой российской науки и коренное обновление отечественной правовой системы обусловили наступление нового этапа в становлении теории юридической техники. Началом его можно считать проведение в 1999 г. в Нижнем Новгороде научно-методического семинара «Юридическая техника»[55], участники которого, во-первых, констатировали недопустимость сведения юридической техники к технике правотворчества; во-вторых, признали теорию юридической техники относительно обособленным разделом общей теории права. Огромная популярность, завоеванная после этого технико-юридической проблематикой, привела к постепенному превращению ее в междисциплинарное направление научных исследований. На сегодняшний день в развитии этого направления можно выделить следующие тенденции:
1) признание абсолютным большинством исследователей широкого подхода к понятию юридической техники: никто из современных авторов уже не отождествляет ее с техникой законодательной, а работы, в которых различия между этими явлениями демонстрируются недостаточно явно, подвергаются неизменной критике[56];
2) всеобщая и постоянно нарастающая популярность технико-юридической проблематики. К примеру, в 1993 г. В. К. Бабаев замечал, что такие важные для правового регулирования средства юридической техники, как аксиомы, юридические конструкции, правовые символы, презумпции и фикции, обойдены вниманием научной литературы[57]. За время, прошедшее с этого момента, ситуация коренным образом изменилась: каждый из названных правовых феноменов уже неоднократно становился самостоятельным предметом общетеоретических и отраслевых монографических исследований. В итоге если на предыдущих этапах развития этого направления правовых исследований еще можно было попытаться упомянуть всех или хотя бы большинство видных специалистов, то сегодня перечислить тех, кто занимается теоретическими, историческими, отраслевыми аспектами теории юридической техники, просто не представляется возможным.
Поэтому, заранее прося прощения у всех ученых, не упомянутых нами, считаем правильным отослать читателя к наиболее полному современному библиографическому указателю, содержащему хронологически и тематически классифицированный перечень отечественных источников по проблемам юридической техники[58];
3) в потоке современной научной литературы все сложнее оказывается не пропустить интересную новую идею, выбрать стоящее из множества проходящих изданий. Поэтому сегодня в развитии актуальных научных направлений существенную роль стали играть не только отдельные публикации, но и наличие постоянной площадки для обсуждения проблемы. Примером подобной площадки является Нижегородский НПЦ «Юридическая техника» и ежегодно проводимые им научные форумы, в ходе которых аккумулируются и проходят апробацию наиболее интересные современные исследования по проблемам юридической техники[59];
4) несмотря на общепризнанность широкого подхода к понятию юридической техники, законодательная техника по-прежнему остается наиболее исследованным ее разделом. Это подтверждается и количеством научных разработок по данной проблематике, и их содержанием. Причины подобного «перекоса» в сторону техники правотворчества представляются вполне объективными. Во-первых, это принадлежность российской правовой системы к романо-германской правовой семье и вытекающее из нее господствующее положение закона в системе источников права. В результате разработка конкретных правотворческих приемов и средств обусловливается практическими нуждами создания и совершенствования права. Во-вторых, в силу особенностей советского периода развития отечественной науки законотворческая техника может считаться традиционным предметом теоретико-правовых исследований. Техника юридическая, в отличие от нее, самостоятельному изучению стала подвергаться относительно недавно, поэтому исследования в этой области не имеют столь же серьезной научной традиции. К примеру, научный коллектив Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ занимается изучением проблем правотворчества на протяжении всей своей 85-летней истории[60]. Неудивительно, что издаваемые здесь книги по-прежнему являются лидерами данного научного направления[61];
5) постепенное становление категориального аппарата теории юридической техники проявляется, в частности, в дискуссии о наименовании той сферы правовой жизни, которую традиционно принято так называть. Ведется речь о том, что термин «юридическая техника» неточен, глубоко противоречив и применяется лишь в силу правовой традиции[62].
Действительно, термин «техника» многозначен. Н. Н. Тарасов говорит, например, о трех философских дискурсах техники: технократическом, естественно-научном и социокультурном, каждый из которых в той или иной мере находит свое проявление в теории права[63]. На уровне обыденного восприятия наиболее явно выступают два значения: 1) техника как совокупность средств (машин, механизмов, инструментов) и 2) техника как мастерство, искусство. Традиционное использование понятия «юридическая техника» исходит из второго значения, большинство же критических соображений в адрес данной категории основывается на первом.
В качестве решения проблемы предлагаются различные пути.
Первый состоит в том, чтобы все то, что в правовой науке принято обозначать понятием «юридическая техника», называть «юридическая технология». Последний термин, как более определенный, должен в этом случае заменить многозначное слово «техника».
Второй способ решения рассматриваемой проблемы заключается в том, чтобы признать право на существование обеих категорий, дифференцировав их значения. Так, В. Н. Карташов вместо прежнего понятия «юридическая техника» выстраивает цепочку научных категорий: «юридическая техника» (средства юридической деятельности) – «юридическая тактика» (методы и приемы этой деятельности) – «юридическая стратегия» (конечные цели и концептуальные направления деятельности) – «юридическая технология» (категория, объединяющая все звенья этой цепи)[64]. В свою очередь, Н. А. Власенко рассматривает технику как часть технологии и условие ее функционирования. Он пишет: «Если юридическая технология отвечает на вопрос: как делать, в какой последовательности осуществлять те или иные операции, то юридическая техника отвечает на вопрос: с помощью каких приемов, каких средств должны осуществляться те или иные технологические операции, действия»[65]. Пытаясь разграничить рассматриваемые понятия, Т. В. Кашанина предлагает выделять в структуре юридической техники две части: 1) собственно юридическую технику (средства); 2) юридическую технологию (приемы, способы, методы)[66].
К сожалению, все эти модели соотношения категорий «юридическая техника» и «юридическая технология» имеют один общий недостаток: они совершенно не облегчают понимание проблемы и не упрощают ее исследование. Фактически предлагается взять всем известный термин («юридическая техника») и заменить его устоявшееся значение на новое, а кроме этого, дополнительно ввести еще одно близкое, но не тождественное понятие («юридическая технология»). Как только дело доходит до анализа конкретных технико-юридических аспектов правотворчества или правореализации, сторонники таких сложных терминологических конструкций, как правило, и сами перестают подчеркивать различия между техникой и технологией, используя эти понятия как синонимы.
Если вернуться к идее замены одного термина на другой, то следует признать, что понятие «технология», возможно, действительно точнее отражает содержание соответствующего явления, однако на сегодняшний день более чем столетняя традиция использования в данном значении категории «юридическая техника» достаточно сильна. Несмотря на многообразие и дискуссионность научных подходов к определению юридической техники, общие границы этого понятия и сфера его применения прочно устоялись в сознании юристов.
Поэтому, даже признавая обоснованность терминологических разногласий, большинство исследователей по-прежнему называют сферу, охватывающую профессиональное искусство юриста, юридической техникой.
Помимо названия данной сферы, серьезные дискуссии у специалистов вызывает вопрос о научном статусе теории юридической техники, т. е. направления, исследующего юридическую технику как явление правовой действительности. Одни рассматривают ее как уже сложившуюся юридическую науку, относящуюся к группе прикладных. Другие считают констатацию подобного статуса юридической техники преждевременной, указывая, что правильнее говорить о ней не как о самостоятельной отрасли знания, а как об относительно обособленном прикладном разделе общей теории права.
Сторонники последней позиции исходят из того, что количественного критерия (объем публикаций, степень популярности и интенсивности технико-юридических исследований) для самостоятельного статуса науки мало. Кроме того, в случае обособления теории юридической техники от общей теории права из последней будет изъят слишком большой блок традиционно теоретических вопросов, что негативно отразится на предмете самой теории права[67].
Как нам представляется, само по себе количество публикаций или конференций по той или иной проблеме не является основанием для выделения ее в самостоятельное научное направление. Но количество это может свидетельствовать об определенном общественном запросе, о том, что практика в данный момент нуждается в исследованиях данного направления. И именно подобный запрос может стать причиной корректировки традиционной системы юридических наук. А в этом случае аргумент о том, что появление новой науки губительно для структуры старой, теряет свою убедительность.
Характеристика теории юридической техники как науки требует описания ее предмета и метода.
Предмет теории юридической техники составляют закономерности профессиональной деятельности по созданию, толкованию и реализации права. Закономерности традиционно выступают предметом многих наук, в частности теории права. В литературе подчеркивается, что, в отличие от общей теории, предмет которой составляют фундаментальные закономерности (закономерности функционирования и развития права в целом), предмет теории юридической техники преимущественно образуют закономерности эмпирические. Они характеризуют процессы создания, интерпретации, конкретизации, применения, систематизации права и формулируются двумя способами:
• в результате обобщения позитивного опыта (правотворческого, интерпретационного, правореализационного и т. п.);
• в результате конкретизации различных теоретических положений применительно к специфике того или иного вида юридической деятельности[68].
С точки зрения масштаба действия[69] технико-юридические закономерности могут быть как глобальными (например, взаимообусловленность юридической техники особенностями правовой системы, историческая связь юридической техники с правом и т. д.), так и локальными (специфика юридической техники в конкретной правовой семье, например преобладание правотворческой техники в странах романо-германского права). По времени действия закономерности юридической техники могут быть и постоянными, и временными. Если первые связаны с самой природой юридической техники и действуют поэтому на протяжении всей истории, то вторые формируются на отдельных стадиях ее развития и определяются уровнем совершенства права, достигнутым на данном этапе.
Рассматривая сферу действия технико-юридических закономерностей, можно заключить, что в их числе явно преобладают не столько общие, сколько специальные закономерности, касающиеся отдельных правовых явлений: правотворчества, системы законодательства, правоприменительного процесса.
Исследование технико-юридических закономерностей имеет достаточно конкретную цель, связанную с прикладным характером самой юридической техники. Эта цель заключается в совершенствовании профессиональной деятельности юриста. Обеспечить такое совершенствование должны разработанные на основе выявленных закономерностей правила[70].
Методы теории юридической техники включают все научные методы, используемые общей теорией права, как общие (анализ, синтез, классификация и т. д.), так и частные (формально-юридический, сравнительно-правовой). Эти методы образуют сложную систему, подробная характеристика строения которой в данном случае представляется излишней, так как принципиально важны для нас лишь два момента: 1) юридическая техника сформировалась как часть общей теории права, поэтому имеет в основе своей ту же научную методологию; 2) все эти методы играют исследовательскую, познавательную роль, служат средством формирования теоретических представлений о юридической технике.
Специфика научной методологии юридической техники заключается в меньшей доле абстрактности, теоретизированности. По сравнению с общей теорией права в теории юридической техники шире применяются конкретно-социологические методы, чаще используются методы моделирования, эксперимента, а также специальные методы, разработанные другими науками: логические, языковые.
Не следует смешивать научные методы юридической техники и собственно технико-юридические методы, т. е. приемы рациональной практической деятельности в области права. Эти методы (правотворческие методы, методы толкования, реализации права, методы систематизации и учета правовых актов и т. д.) разрабатываются самой юридической техникой либо теми разделами общей теории права, которые можно отнести к предмету юридической техники и которые имеют не столько теоретическое, сколько практическое значение – выступают научной основой совершенствования действующего права. Если метод изначально не соответствует предмету науки юридической техники, то он никогда не выведет ее на новый уровень, не обеспечит реальный прирост знаний к новым определениям. Переопределение метода в такой же степени обусловливает усложнение предмета науки юридической техники, как и наоборот. Речь идет о том, что должно быть соответствие предмета и метода науки юридической техники.











