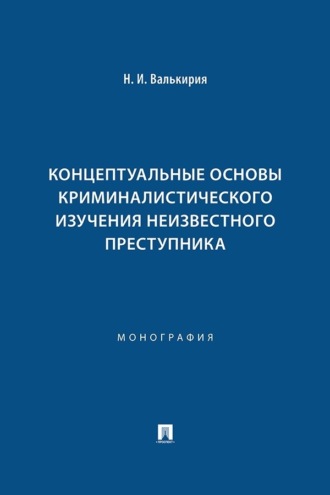
Полная версия
Концептуальные основы криминалистического изучения неизвестного преступника
Анализ положений существующих учений и теорий показывает, что в подавляющем большинстве ученые в основе их создания используют разработанные профессором Р. С. Белкиным[101] общетеоретические основы о характеризующих признаках частных криминалистических теорий (криминалистических учений) и в том числе обосновывают создание той и или иной авторской концепции определенными в трудах именитого ученого тенденциями развития частных криминалистических теорий.
При этом, соблюдая формальные требования к созданию частных криминалистических теорий, в некоторых случаях преувеличивается значение многих тематических направлений в аспекте придания им статуса учения или теории. В качестве примера можно привести следующие: частное криминалистическое учение о видеозаписи следственных действий[102], криминалистическое учение о борьбе с преступностью несовершеннолетних[103], общие положения методик расследования преступлений экономической направленности как частная криминалистическая теория[104], криминалистический учет как частная криминалистическая теория[105] и др.
Вместе с тем допущение именования учеными-криминалистами того или иного теоретического построения учением или теорией вызвано отсутствием общепризнанных критериев различий между данными понятиями, что позволяет свободно оперировать данными терминами в научных исследованиях и создавать различные учения и теории.
Попытка разграничить данные понятия была предпринята А. М. Кустовым, который на основе собственных исследований и изучения литературных источников пришел к выводу о необходимости отличия в криминалистике частных теорий и учений как самостоятельных категорий и систем, формирующихся на двух уровнях: 1 – которые являются составными частями общей теории криминалистики; 2 – которые обозначают самостоятельные отрасли различных разделов науки. По мнению ученого, криминалистические учения существуют как совокупность теоретических положений, обеспечивая следственную и экспертную практику новыми методическими разработками. В свою очередь частные теории – это стройные криминалистические системы, которые выступают в качестве наиболее сложной и развитой формы научного криминалистического знания, формирующегося на основе теоретических положений и криминалистических учений[106].
Однако, обращаясь к толкованию терминов «учение» и «теория» на общетеоретическом уровне, подобного рода различий не усматривается. Приведем отдельные примеры, отражающие общее представление в научных трудах, посвященных непосредственно данной тематике, и нашедшие выражение в словарях и энциклопедиях.
Как правило, термин «теория» рассматривается в качестве синонима термину «учение», а именно как «учение, являющееся отражением действительности, обобщением практики, человеческого опыта»[107]. При этом термин «теория» толкуется в двух аспектах – «как комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления (в широком смысле), а также как высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существующих связях определенной области действительности – объекта данной теории (в узком смысле)»[108].
Такое широкое толкование и отождествление рассматриваемых терминов допускает в криминалистической науке представлять в качестве теории любую теоретическую конструкцию и обозначать теории на уровне не только общей теории криминалистики, но и в иных разделах криминалистики. Однако это позволение предопределяет еще большую разрозненность в определении места учений и теорий в системе криминалистики, в том числе смывает границы в понимании сущностного содержания данных понятий.
Обозначенные лишь некоторые вопросы формирования криминалистических учений и теорий предопределяют необходимость обращения повышенного внимания ученых на данную проблематику, глубокого критического анализа существующих предложений по ее решению, соблюдения единого подхода к созданию теорий и учений и определению их места в системе криминалистики. В противном случае создание многообразия авторских концепций без устранения вышеуказанных разночтений получит свое продолжение и в конечном счете создаст серьезный дисбаланс в развитии криминалистической науки[109].
Дискуссионность определения учеными места криминалистических учений, теорий в системе науки обусловлена также различными взглядами на объект и предмет криминалистики, острая полемика в отношении которых не утихает и в настоящее время. В частности, данная проблематика активно ранее обсуждалась учеными на страницах научного журнала «Библиотека криминалиста»[110].
К гносеологическим проблемам адекватного определения объектов криминалистики, например С. В. Лаврухин и Ю. С. Комягина, относят трудности его познания, обусловленные следующими причинами: 1) многообразие процессов, событий, явлений и материальных объектов, изучаемых криминалистикой при решении задачи научного обеспечения процессов обнаружения, раскрытия и предупреждения преступлений; 2) объективные сложности в разграничении понятий, связанных со сферой криминального поведения преступника, что проявляется в их отождествлении; 3) сложный процесс идентификации объекта криминалистики в процессе его интерпретации; 4) сложная природа криминалистики[111].
Среди основных веяний расширения (изменения) объектно-предметной области криминалистики можно указать следующие: исследование вопросов административного, гражданского, арбитражного судопроизводства[112]; изучение закономерностей деятельности адвоката[113]; предложения о смене парадигмы – перехода от исследований преступлений к изучению поведения преступника[114] и др.
Несмотря на разнообразные, отметим небесспорные предложения ученых, направленные на развитие криминалистической науки, вместе с тем необходимо учитывать, что любые изменения в определении предмета и объекта науки могут привести к необходимости модернизации системы криминалистических учений (теорий) в целом. В связи с тем, что любые учения (теории) отражают предметную область криминалистики, возникнет необходимость в пересмотре их исходных теоретических основ.
Полагаем, что в данном случае необходим поиск рациональных путей решения проблем применения нововведений в криминалистической науке, не приводящих к существенным преобразовательным процессам без достаточного научного обоснования и практической надобности.
В этой связи, на наш взгляд, заслуживают внимания представления Т. С. Волчецкой по некоторым аспектам рассматриваемой проблематики. В частности, исследуя отдельные вопросы использования криминалистических знаний в различных сферах юридической деятельности, она не усматривает необходимости в пересмотре и неоправданном расширении объектов криминалистической науки. По ее мнению, целесообразно было бы создать новый факультативный раздел в науке (к примеру «Прикладная криминалистика в юридической практике»), в котором бы излагались в самом широком плане прикладные аспекты криминалистических знаний, например о специфике использования криминалистической науки в гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве, в таможенном деле, в деятельности нотариуса и т. д.[115]
Разрешение вышеуказанных дискуссионных вопросов является актуальной задачей для криминалистической науки, и данная проблематика, полагаем, должна разрабатываться на уровне самостоятельного монографического исследования, в рамках которого необходимо провести глубокий критический анализ всех имеющихся представлений по рассматриваемому направлению и сформулировать аргументированные выводы о необходимости (либо об отсутствии необходимости) в пересмотре объекта, предмета и системы криминалистики, в том числе с позиции их соответствия общетеоретическим положениям, касающимся определения объектно-предметной области и системы науки в целом.
В настоящей работе нами разделена позиция Р. С. Белкина о четырехэлементном строении системы науки и о месте в данной системе криминалистических учений, теорий. Согласимся, что критерии для систематизации частных криминалистических теорий в рамках общей теории криминалистики требуют дальнейшей разработки. Однако на сегодняшний день предложенное Р. С. Белкиным определение места теорий в системе криминалистики, по нашему мнению, является более упорядоченным в отличие от иных представлений на решение данной проблемы.
Таким образом, криминалистическое учение о неизвестном преступнике рассматривается нами как частная криминалистическая теория, как элемент общей теории криминалистики.
Как любая частная теория, данное учение имеет свой объект, предмет и методологию; понятийный аппарат; выполняет ряд функций и т. д.[116] Положения криминалистического учения о неизвестном преступнике: а) взаимосвязаны с положениями различных иных криминалистических учений, теорий; б) могут быть применимы во всех разделах криминалистики; в) выступают теоретической основой использования методов и средств по построению криминалистической модели искомого преступника и ее применению в расследовании преступлений и т. д. Более подробно содержание исследуемого учения рассматривается в следующем параграфе работы.
Рассматривая криминалистическое учение о неизвестном преступнике как элемент общей теории криминалистики, следует также остановиться на вопросе определения места данного учения в системе криминалистических учений, теорий. Исследование данного вопроса взаимосвязано с исследованием дискуссионных представлений о понимании содержания, наименовании, системе и структурных компонентах общего учения, в рамках которого должны рассматриваться вопросы криминалистического изучения человека.
Актуальность и практическая значимость вопросов изучения индивидуальных особенностей человека в расследовании преступлений определяют повышенный интерес ученых к их исследованию. Накопленные в настоящее время криминалистические знания в данной области, в том числе разработанные учения (теории) о различных участниках уголовного судопроизводства[117], явились одной из предпосылок необходимости создания криминалистической теории, аккумулирующей в себе имеющиеся научные положения о криминалистическом изучении человека. Не останавливаясь на историческом аспекте указанного вопроса, выделим ряд проблем, разрешение которых представляется важным для выработки единых концептуальных положений данного учения.
Во-первых, в настоящее время требует дальнейшего переосмысления и научной разработки название данного учения.
В криминалистической литературе данное учение (теорию) предлагают именовать в различных интерпретациях, например, как: криминалистическую теорию изучения личности[118]; криминалистическую гомологию[119]; криминалистическую теорию изучения и использования свойств личности при расследовании преступлений[120]; криминалистическую антропологию[121] (либо антропоскопию[122]); криминалистическое учение о личности[123] (либо о человеке[124]), о личности участника уголовного судопроизводства[125], о личности и защите ее прав[126], о личностной информации[127] и др.
При этом многими учеными в рамках исследования тех или иных вопросов криминалистического изучения человека указывается на существование учения (либо теории), аккумулирующего систему соответствующих знаний в общей теории криминалистики, в качестве констатации факта, что не соответствует реальной действительности, а также в должной мере научно не аргументировано.
До сегодняшнего дня еще не сформированы основы данного учения с соблюдением требований, предъявляемым к подобного рода теоретическим построениям. Также следует отметить, что акцентирование научного внимания на данном вопросе либо конструктивные дискуссии по рассматриваемой тематике представлены лишь в единичных работах[128].
Во-вторых, неразрешенным остается вопрос о месте данного учения в системе криминалистики, в том числе в системе научных учений (теорий). Например, Н. П. Яблоков и М. А. Лушечкина определяют криминалистическую теорию о личности как элемент общей теории криминалистики[129].
С. В. Лаврухин свойства и состояния преступника, жертву, способ поведения преступника, отражение поведения преступника и его последствия рассматривает как компоненты поведения преступника, которое, в свою очередь, ученый определяет структурным элементом криминалистической модели поведения преступника в общей теории криминалистики[130].
О. В. Полстовалов вопросы криминалистической антропологии исследует в рамках криминалистической тактики[131].
В. М. Шматов считает «вполне обоснованным выделить проблемы изучения личности участников уголовного процесса и обеспечения защиты их прав в самостоятельный раздел криминалистики»[132].
Большинство ученых данное учение определяют как самостоятельный элемент в общей системе научных учений, теорий. В то же время, например Г. И. Поврезнюк, рассматривая проблемы теории и практики криминалистического установления личности, разработал криминалистическое учение о личностной информации в рамках такой теории как «организация деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию информации (свойств и признаков) об устанавливаемом лице»[133].
В-третьих, в современных условиях не сформировано единого представления о системе и структурных элементах данного учения. Дискуссионным также остается вопрос о круге объектов изучения в рамках рассматриваемого учения.
Например, В. А. Жбанков систему криминалистической теории изучения и использования свойств личности при расследовании преступлений представил методологическим и практическим разделами. В первом разделе, по его мнению, должны содержаться положения о понятии и содержании теории, ее взаимосвязи с иными теориями и учениями, об основных понятиях учения и др., а также об особенностях отображения свойств личности в окружающей действительности и принципах построения ее модели. Второй раздел в его представлениях должен включать вопросы о криминалистических методах и средствах сбора, исследования, оценки и использования информации о конкретных участниках уголовного судопроизводства (подозреваемом, обвиняемом, свидетеле и др.)[134].
В похожем ракурсе В. А. Образцов определяет систему криминалистической гомологии как учения о человеке. «Общие положения представлены в виде системы знаний, важных для всех случаев гомологических исследований и решаемых при этом теоретических и прикладных задач познавательного и конструктивного порядка. Особенная часть включает три подсистемы: 1) криминалистическое учение о жертве преступления; 2) криминалистическое учение о преступнике (заподозренном, подозреваемом, обвиняемом, подсудимом); 3) криминалистическое учение о свидетеле»[135].
Е. П. Ищенко систему криминалистической антропоскопии (общей теории криминалистического учения о человеке) представил четырьмя разделами: 1) криминалистическая гомология (учение о личности); 2) криминалистическая гомобиоскопия (криминалистическая биология человека); 3) криминалистическая габитоскопия (учение о криминалистически информативных признаках внешнего облика человека); 4) криминалистическая гомеоскопия (изучает традиционные криминалистические следы, происходящие от человека {следы рук, ног, зубов, губ, лба, ушных раковин})[136].
Оригинальную многоуровневую систему теории предлагает О. В. Полстовалов, указывая в качестве объектов криминалистического познания в том числе участников со стороны обвинения и защиты. Ученым определяются границы познания о личности участника уголовного судопроизводства сообразно характеру затрагиваемых знаний (межотраслевой и внутриотраслевой), а также соответствующим уровнем исследования в рамках познания (внутриотраслевое направление). С учетом данных положений им выделяются следующие уровни изучения личности:
«1) общий уровень (криминалистическая антропология) – человек как объект криминалистического познания исследуется во всех проявлениях его естества;
2) частные теории о личности первого уровня, разрабатываемые в рамках криминалистической персонологии, представляющей собой теорию изучения личности применительно к сторонам в уголовном судопроизводстве (участникам на стороне защиты и обвинения и проч.);
3) частные теории второго уровня, представленные криминалистическими учениями о личности конкретных участников уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего и т. д.)»[137].
Научные воззрения о необходимости расширения объектов исследования в рамках рассматриваемого криминалистического учения представлены и в иных работах. В частности, предлагается изучать личность не только как источник, но и как носитель криминалистически значимой информации (понятого, специалиста, эксперта и т. д.)[138].
В-четвертых, не определено место криминалистического учения о лице, совершившем преступление (в нашем понимании – неизвестном преступнике), в системе исследуемого учения, что во многом обусловлено традиционным отождествлением в криминалистике понятий, в частности, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и преступника, в практическом аспекте – под неизвестным преступником, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и установленным преступником подразумевая в подавляющем большинстве одно лицо.
Так, Ф. В. Глазырин в докторской диссертации (1973 г.) криминалистическое изучение личности обвиняемого рассмотрел как структурный элемент криминалистического учения о личности преступника. При этом изучение личности преступника в криминалистике ученый определил двумя направлениями: 1) сбор, получение информации о личности преступника, еще неизвестного следствию; 2) изучение преступника, уже известного следствию, а именно подозреваемого, обвиняемого. В представлениях Ф. В. Глазырина внутренняя структура криминалистического учения о личности преступника должна состоять из общей и особенной частей. В общей части, полагает ученый, исследованию подлежат проблемы понятия личности (в криминалистическом аспекте), его структуры, роли личностных качеств в избрании вида, способов совершения преступного деяния, системы зависимостей между личностью правонарушителя и ее поведением на предварительном следствии и судебном разбирательстве, закономерностей применения технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций и т. д. В особенной части предлагается рассматривать вопросы использования информации о личности правонарушителя в криминалистической технике, тактике и методике[139].
В. А. Жбанков, наряду с предложенной системой теории, указанной выше, отметил, что «в ситуации, когда преступление совершено в условиях неочевидности, наибольшее внимание уделяется лицу, совершившему преступление»[140], однако не выделил неизвестного преступника самостоятельным объектом изучения.
Не указывается неизвестный преступник в качестве объекта познания и в работе В. А. Образцова. В рамках второй подсистемы особенной части криминалистической гомологии под преступниками (условно) ученым понимаются конкретные лица, вовлеченные в процесс уголовного судопроизводства[141].
С целью решения выявленных проблем сформулируем ряд предложений, способствующих формированию и дальнейшему развитию рассматриваемого учения.
1. Об уточнении наименования учения.
На наш взгляд, предлагаемые учеными названия исследуемого учения (теории) (криминалистическая антропология, криминалистическая антропоскопия, криминалистическая теория о личности и т. п.) по своему смысловому содержанию достаточно широки.
Определение наименования учения во многом обусловлено установлением объектов криминалистического познания. В этой связи следует отметить, что на уровне частной криминалистической теории исследование вопросов изучения личностных особенностей носителей криминалистически значимой информации о произошедшем преступлении (специалиста, эксперта и т. д.), в том числе в рамках одного учения с участниками криминального события, на сегодняшний день является дискуссионным. С позиции целесообразности и значимости для процесса расследования преступлений представляется также спорным и предложение о необходимости изучения на уровне частной криминалистической теории всех участников уголовного судопроизводства со стороны защиты и обвинения.
По нашему мнению, объектами познания исследуемого учения должны являться непосредственно участники криминального события, т. е. люди – источники сведений о произошедшем преступном деянии, поскольку именно их изучение является необходимым и важным для решения задач уголовного судопроизводства, в отличие, к примеру, от изучения индивидуальных качеств специалиста, понятого, эксперта и т. д.
Учитывая вышеизложенные положения, название данного учения нами предлагается определить в следующей трактовке – криминалистическое учение об участниках криминального события.
В данном случае следует уточнить, почему в названии учения фигурируют не участники уголовного судопроизводства, а участники криминального события. При формулировании названии нами учитывался тот факт, что объектами познания могут быть не только установленные, но и неустановленные, например свидетель, потерпевший. Соответственно, методология, средства и методика изучения данных лиц будут существенно различными. Более того, неизвестный преступник – это не неустановленный подозреваемый. Сведения о неизвестном преступнике собираются на протяжении всего процесса расследования и должны сопоставляться с информацией о подозреваемом, обвиняемом для избежания следственной ошибки. Поэтому в целях терминологической согласованности названия и объектов познания учения наименование последнему определено как «криминалистическое учение об участниках криминального события».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2005. С. 330.
2
Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 2009. С. 153 (автор главы V – Ю. М. Антонян).
3
См.: Пирожков В. Ф. Криминальная психология. М., 2007. С. 15–16.
4
Николайченко В. В. Пенитенциарные и постпенитенциарные преступления как объект криминалистического исследования / под ред. В. И. Комиссарова. Саратов, 2005. С. 54.
5
Философская энциклопедия / гл. ред. Ф. В. Константинов. М., 1964. Т. 3. С. 196.
6
При этом следует принимать во внимание справедливое замечание Д. В. Исютина-Федоткова о том, что лицо «может быть признано невменяемым либо не подлежать ответственности в силу возраста, в связи с чем логично и юридически правильно в таком случае говорить о лице, совершившем общественно опасное деяние» (Исютин-Федотков Д. В. Основы криминалистического изучения личности: монография. М., 2023. С. 13).
7
Новая философская энциклопедия. В 4 т. / науч. – ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин [и др.]. М., 2010. Т. 4. С. 345.
8
Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев [и др.]. М., 1983. С. 770.
9
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977. С. 231.
10
См.: Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Науч. – ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин [и др.]. М., 2010. Т. 4. С. 345.
11
См.: Малыхина Н. И. Определение понятия «лицо, совершившее преступление» // Российская юстиция. 2012. № 12. С. 19–21.
12
Ведерников Н. Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу // Государство и право. 2003. № 6. С. 49.
13
Сущностное содержание, различия динамической и дескриптивной (описательной) моделей преступления рассматриваются в п. 3.2 главы 3 настоящей работы.
14
См.: Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции и др. Смоленск, 1896. Вып. 2. С. 421–468.
15
См.: Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о преступнике. Анархисты / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М., 2004. С. 146.
16
См.: Рейсс Р. А. Словесный портрет. Опознание и отождествление личности по методу Альфонса Бертильона. М., 1911.

