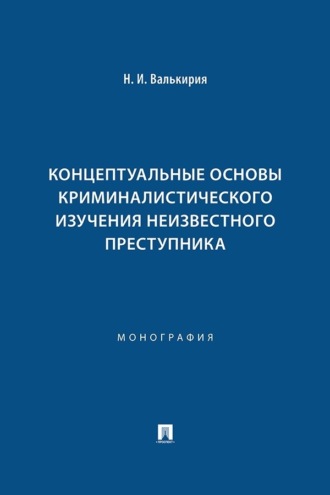
Полная версия
Концептуальные основы криминалистического изучения неизвестного преступника
За последние годы появилось множество работ по отдельным направлениям изучения неизвестного преступника, что еще раз свидетельствует об актуальности и практической значимости исследуемой проблематики. Так, различные аспекты моделирования неизвестного преступника рассмотрены, например, в трудах Ю. Л. Дябловой[52], Тимофеевой[53], Г. Н. Мухина, О. Г. Каразея, Д. В. Исютина-Федоткова[54], С. В. Лаврухина[55] и др. Авторская методика составления психолого-криминалистического портрета представлена в коллективной монографии Л. М. Исаевой, В. В. Нестерова, О. И. Прокофьева[56].
Развивая научные изыскания В. А. Жбанкова, В. А. Образцова и др., нами сформулированы основы применения криминалистических методов и средств в установлении лица, совершившего преступление[57]. Некоторые проблемы изучения искомого преступника исследованы в работах Г. И. Поврезнюка[58], С. В. Милюкова[59] в рамках разработки общих вопросов изучения личности в криминалистике. В. И. Паршиковым в определенной системе представлены способы выявления лица, совершившего преступление[60]. В современных условиях все большее внимание уделяется исследованию внешнего облика человека для решения идентификационных и диагностических вопросов (А. М. Зинин, В. Г. Булгаков, Н. Н. Ильин[61] и др.). Наблюдается активизация научных исследований по вопросам диагностики качеств человека по его поведению и оставленным материальным следам (Т. А. Ткачук[62], В. Н. Чулахов[63], М. Н. Зубцова[64], Е. С. Мазур[65], Т. Ф. Моисеева[66], С. С. Самищенко[67], Ю. Г. Корухов[68], К. Н. Бадиков[69], Д. К. Скотников[70], В. И. Комиссаров, Е. В. Левченко[71] и многие другие). Практически в каждой работе, посвященной особенностям методики расследования какого-либо вида преступления, затрагиваются в той или иной степени вопросы установления информации об искомом преступнике[72].
Необходимо отметить, что еще в 1973 году в своей докторской диссертации Ф. В. Глазырин инициировал постановку вопроса о необходимости создания криминалистического учения о личности преступника как структурного компонента общей теории криминалистики. При этом, выделяя два направления в изучении личности преступника («еще неизвестного следствию преступника и уже известного следствию преступника»[73]), он отмечал: «Основными отправными положениями этого учения могли бы стать понятие о личности преступника в криминалистическом аспекте, оценка роли личностных качеств в избрании вида, способа преступного деяния, мест, способов укрытия следов и орудий преступления, обусловленные этим закономерности образования доказательства, система зависимостей между личностью правонарушителя и ее поведением в момент совершения преступления, после него, на предварительном следствии, судебном разбирательстве, с одной стороны, и закономерностями применения технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций – с другой»[74]. Исходя из данных суждений, ученый предложил создание криминалистического учения о личности преступника, рассматривая в одном лице различные процессуальные фигуры, при этом под неустановленным преступником имелся в виду неустановленный подозреваемый, что, по нашему мнению, не совсем верно, учитывая ранее изложенные нами представления о необходимости разграничения соответствующих понятий. Анализируя сущностное содержание криминалистических научных изысканий, посвященных изучению личности преступника, в подобном ракурсе целостных положений такого учения до сих пор еще не создано.
Тем не менее в одной из последних современных работ по проблемам, связанным с изучением лица, совершившего преступление, констатируется факт того, что «в настоящее время криминалистическое учение о личности преступника (лице, совершившем преступление) заняло свое место в системе частных криминалистических теорий и учений»[75]. Данное утверждение представляется в недостаточной степени аргументированным. Автор указанного высказывания, как и многие ученые-криминалисты, понятие «личность преступника» («лицо, совершившее преступление») рассматривает как общее понятие, применяемое в отношении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (при этом, заметим, не акцентируя внимания на отнесение к исследуемому понятию неизвестного преступника). Однако любая частная криминалистическая теория должна иметь свое научно обоснованное структурное построение, в рамках которого, в частности применительно к исследуемой тематике, должны быть отражены вопросы об источниках криминалистически значимой информации о лице, методологии и методике его изучения и проч.; необходимо и четкое определение ее места в системе научных теорий, учений (является ли она структурным компонентом более общей теории либо рассматривается сама в качестве самостоятельной среди общих теорий). Понятийное отождествление вышеуказанных терминов, на наш взгляд, не дает оснований для создания в таком представлении самостоятельного научного направления в общей теории криминалистики – криминалистического учения о лице, совершившем преступление, поскольку не сможет обеспечить соблюдение указанных требований.
Во-первых, следует учитывать, что, например, методология и методика изучения подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также, отметим, неизвестного преступника, различна по своей сути и обусловлена специфическими для каждой ситуации задачами, разрешаемыми в том числе и различными субъектами криминалистической деятельности. Полагаем, что в рамках одной самостоятельной теории невозможно в полном объеме раскрыть указанные вопросы. Более того, рассмотрение лица, совершившего преступление, как общего понятия для указанных лиц не может обеспечить упорядоченного внутреннего единства в построении системы теории, отражающей теоретические и прикладные аспекты исследуемого явления.
Во-вторых, подобное толкование термина «лицо, совершившее преступление» порождает соответствующие противоречия в определении места структурных компонентов данного учения в системе частных криминалистических теорий. Так, если, например, Ф. В. Глазырин определил изучение личности обвиняемого как часть криминалистического учения о личности преступника[76], то И. А. Макаренко криминалистическое учение о личности несовершеннолетнего обвиняемого предложила рассматривать как составной элемент учения о личности участника уголовного судопроизводства[77].
С учетом изложенных дискуссионных положений считаем, что на сегодняшний день говорить о сформированности криминалистического учения о неизвестном преступнике, отражающего согласованность в понимании его сущностного содержания, структурного построения и определении места в системе частных криминалистических теорий, пока преждевременно.
В современных условиях в криминалистике лишь создана определенная совокупность знаний по различным аспектам изучения неизвестного преступника во всех разделах науки, что и составляет исходные положения для формирования соответствующего самостоятельного криминалистического учения.
При этом до настоящего времени отдельные теоретические положения и практические рекомендации в рамках криминалистической техники, криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений не систематизированы, носят разрозненный характер, а в некоторых случаях и противоречивый (например, по вопросам понимания криминалистической характеристики преступления как источника информации об искомом преступнике). Но исследование отдельных разработок не может обеспечить познание более глубокой сущности исследуемого явления. По данному вопросу Р. С. Белкин указывал: «Отдельное теоретическое положение, во-первых, <…> может стать элементом, «кирпичиком», в системе других теоретических положений, объединяемых в теорию, и в таком качестве – элементом частной криминалистической теории <…>, во-вторых, <…> может стать исходным для развертывания на ее основе системы теоретических положений, впоследствии превращающихся в развитую теорию. <…> В рамках отдельных теоретических положений познание может дойти до знания отдельных закономерностей предмета; объективная же связь этих закономерностей, т. е. знание закономерностей более глубокой сущности, – это уже уровень частной криминалистической теории»[78]. «Научная теория, как и все наше знание, представляет отображение определенных свойств, отношений и закономерностей реального мира. В теории такое отображение оказывается наиболее адекватным действительности, так как оно относится не к отдельным свойствам и отношениям исследуемых явлений, а к некоторой системе в целом»[79].
Более того, имеющиеся изыскания по отдельным аспектам изучения неизвестного преступника в рамках уже существующих частных криминалистических теорий, учений не могут обеспечить полноту и всесторонность исследования лица, совершившего преступление, поскольку глубокий анализ любого сложного явления возможен только при условии, что оно станет самостоятельным объектом изучения, а не будет рассматриваться только как явление, связанное с другими проблемами. Некоторые из данных положений в том числе устарели в силу развития криминалистики в целом, а также знаний иных наук, и требуют пересмотра, уточнения либо модернизации (например, криминалистического учения о механизмах следообразования[80]).
В недостаточной степени исследованными остаются вопросы особенностей отображения качеств человека в окружающей действительности; понимания источников информации об искомом преступнике. Малоразработанными являются способы установления взаимосвязей между искомым преступником и иными элементами криминального события при расследовании преступления; система методов и средств изучения неизвестного преступника, методические основы деятельности следователя по изучению искомого лица и др., что негативно сказывается и на эффективности деятельности правоохранительных органов по поиску лица, совершившего криминальное деяние. Свидетельством тому является ежегодный рост преступных посягательств, значительное количество нераскрытых преступлений, по большинству из которых остались неустановленными виновные лица, что предопределяется, в частности, недостаточным научно-методическим обеспечением сотрудников правоохранительных органов по вопросам изучения неизвестного преступника. По результатам анкетирования 217 следователей 85 % из них считают недостаточными для эффективного поиска лица, совершившего преступление, имеющиеся на сегодняшний день в криминалистике научно-методические рекомендации по изучению неизвестного преступника.
В определенной степени наличие указанных научных проблем обусловлено неоднозначным и противоречивым толкованием термина «лицо, совершившее преступление», пониманием модели неизвестного преступника и ее структурных компонентов, соотношения криминалистической характеристики преступления и информационной модели преступления. Существенные разногласия присутствуют и при определении понятий свойств и признаков человека, следов и их разновидностей, метода моделирования и его значения в изучении лица, совершившего преступление, и проч.
Вышеуказанные неразрешенные научные вопросы, предопределяющие несогласованности с практикой изучения лица, совершившего преступление, свидетельствуют о наличии в данной области знаний проблемных ситуаций, обуславливающих существование соответствующей научной проблемы – необходимости разработки в криминалистике целостной системы непротиворечивых знаний по вопросам изучения неизвестного преступника, в комплексе отражающей теоретико-прикладные аспекты изучаемого явления.
Решение данной проблемы в первую очередь связано с выдвижением научных гипотез, призванных объяснить и устранить указанные противоречия.
При выдвижении любых научных гипотез должны быть соблюдены следующие предъявляемые к ним требования: 1) гипотеза всегда должна формулироваться по отношению к той или иной предметной области; 2) любую гипотезу можно использовать плодотворно только при условии, если исследователь исходит из нее как из установленной системы знаний; 3) гипотеза в известных границах определяет характер необходимых и возможных вопросов, а также эмпирических познавательных действий исследователей; 4) гипотеза должна быть сформулирована в виде таких обобщений или утверждений, которые позволяли бы по-новому рассуждать о предмете, строить новые логические выводы[81].
Учитывая данные положения, укажем следующие выдвинутые нами основные гипотезы, направленные на разрешение рассматриваемой научной проблемы:
1) неизвестный преступник – собирательный образ объективно существующего человека, совершившего преступление, сбор информации о котором осуществляется на протяжении процесса расследования преступления;
2) на современном этапе развития криминалистики существуют объективные предпосылки формирования системы положений, образующих криминалистическое учение о неизвестном преступнике;
3) в окружающей действительности отображаются не только свойства, но и состояния лица, совершившего преступление, выраженные в их признаках;
4) самостоятельными формами отображения свойств и состояний искомого преступника, наряду с материальными и идеальными, являются также цифровые следы;
5) криминалистическая характеристика преступления – одна из разновидностей информационных моделей преступления;
6) специфичность методов изучения искомого лица, совершившего преступление, обусловленная отсутствием конкретного человека, подлежащего исследованию;
7) метод моделирования – самостоятельный метод познания, используемый при построении криминалистической модели неизвестного преступника, наряду с анализом, абстрагированием, экспериментом и т. д.;
8) реализация методов изучения неизвестного преступника обеспечивается посредством применения соответствующих средств его изучения;
9) специфические закономерности деятельности субъектов изучения лица, совершившего преступление, предопределенные необходимостью решения задачи по установлению, исследованию информации о свойствах и состояниях искомого преступника и ее использованию в процессе расследования преступления.
Важное значение при формировании любой теории имеет создание идеализированных, абстрактных объектов, отношения между которыми приблизительно верно отображают существенные связи между реальными предметами и процессами. Свойства этих объектов выражаются с помощью исходных, первоначальных понятий теории, а логические отношения между ними – посредством основных законов теории. С точки зрения гносеологии, отмечает Г. И. Рузавин, наиболее важным и определяющим компонентом структуры любой теории является наличие именно такой системы абстрактных объектов, которая характеризует специфику научной теории и играет главную роль в ее построении. По существу, данная система идеализированных объектов – это концептуальное ядро, базис теории. В силу того, что подобная система теоретических объектов в определенной мере может замещать изучаемую реальную систему, ее можно рассматривать и как абстрактную модель[82]. Применительно к рассматриваемой нами тематике абстрактной моделью будет являться следующая система теоретических объектов – «свойства и состояния искомого лица, совершившего преступление», «следы», «криминалистическая модель неизвестного преступника», «методы и средства изучения неизвестного преступника» и т. д.
Обоснование выдвинутых гипотез, в рамках которых в том числе будут выявлены взаимосвязи между указанными идеализированными объектами, обеспечит формирование не просто суммы связанных между собой знаний, но и определенного механизма построения знания, внутреннего развертывания теоретического содержания, определенной программы исследования, т. е. создаст целостность криминалистического учения о неизвестном преступнике как единой системы знаний. «Подобная возможность развития аппарата научных абстракций в рамках и на основе теории делает последнюю мощнейшим средством решения фундаментальных задач познания действительности»[83].
Таким образом, необходимость выделения самостоятельного направления исследования в науке – криминалистического учения о неизвестном преступнике – обусловлено комплексом научных и практических предпосылок.
В первую очередь, научные предпосылки предопределены общими законами развития криминалистической науки: непрерывность накопления научного знания, интеграция и дифференциация научного знания, связь и взаимное влияние науки и практики, ускорение развития науки в условиях научно-технического прогресса (по Р. С. Белкину[84]). Во-вторых, обусловлены разрозненностью имеющихся отдельных, в том числе противоречивых, криминалистических знаний о лице, совершившем преступление, необходимостью их пересмотра, совершенствования и разработки новых теоретических положений и научно-практических рекомендаций по вопросам изучения искомого преступника, приведение их в единую целостную систему непротиворечивых знаний.
Научные предпосылки взаимосвязаны с практическими, взаимообуславливая друг друга. А. В. Дулов, Г. И. Грамович и другие, рассматривая взаимосвязь и взаимообусловленность криминалистической теории и социальной практики, справедливо указали на то, что «изучение практики для криминалистики дает возможность: 1) выявлять проблемы, задачи, которые возникают при расследовании и требуют глубоко научного исследования для их разрешения; 2) создавать эмпирическую базу для научных исследований; 3) обобщать имеющийся передовой опыт и использовать его в структуре научных исследований; 4) проверять в практической деятельности выявленные наукой закономерности и разработанные рекомендации по применению методов, средств, приемов расследования»[85]. Безусловно, экономические, социальные и политические преобразования в нашей стране во многом влияют на увеличение роста преступности. При этом недостаточная научная разработанность рассматриваемого направления предопределяет и соответствующие невысокие показатели в практической деятельности по установлению виновного лица.
Представляется, что разрешение указанных в работе проблем путем комплексного их исследования обеспечит прогресс криминалистической науки в области изучения искомого лица, совершившего преступление, и повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по исследуемому направлению. В связи с чем создание криминалистического учения о неизвестном преступнике вполне обоснованно следует признать актуальной и своевременной для решения задачей криминалистики.
1.2. Место учения о неизвестном преступнике в системе криминалистики, системе криминалистических учений
Определение места учения о неизвестном преступнике в системе криминалистики неразрывно связано с рассмотрением дискуссионных вопросов систематизации криминалистических теорий, учений и определением их места в разделах криминалистики, что обусловлено, в частности, различными взглядами на систему криминалистики.
Анализ и обобщение точек зрения некоторых ведущих ученых-криминалистов по данному вопросу позволили выделить две доминирующие в настоящее время из них.
1. Рассмотрение частных криминалистических теорий (учений) в рамках общей теории криминалистики.
Так, Р. С. Белкин систему частных криминалистических теорий определял содержанием общей теории криминалистики, при этом выделяя более или менее общие теории по отношению друг к другу, которые взаимосвязаны между собой и отражают отдельные элементы (или группы элементов) предмета криминалистики (например, общая теория криминалистической идентификации обладает большей степенью общности по сравнению с трасологической идентификацией, портретной идентификацией и др.)[86]. Данную позицию разделяет большинство ученых-криминалистов: Е. Р. Россинская[87], А. Ф. Волынский, В. П. Лавров[88], Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин[89] и др.
А. А. Эйсман в основе построения системы данных теорий и учений указал признак максимального обобщения (общие для всех отраслей криминалистики), но, в отличие от Р. С. Белкина, несколько в ином аспекте представил общую теорию криминалистики. Так, ученый, наряду с данным разделом, выделил также «Введение в науку». В его представлениях областью приложения введения в науку является сама наука, а общей теории криминалистики – практическая деятельность по раскрытию преступлений. По сути, общая теория криминалистики им представлена как учение о методах раскрытия преступлений и доказывания[90], а положения теории идентификации определены универсальными для всей криминалистической науки[91].
2. Выделение общих и частных криминалистических теорий, учений в различных разделах криминалистики.
Например, Н. А. Селиванов разграничивает общие и частные криминалистические теории, рассматривая их как род и вид. Развитие данных теорий им представлено в рамках соответствующих разделов науки: общие теории (учения) – в общей части, частные теории (учения) – в криминалистической технике, следственной тактике и методике расследования. К общим теориям им отнесены теория криминалистической идентификации, учения о механизмах следообразования, о способах совершения и сокрытия преступлений, о личности обвиняемого и др. Частные теории определены учениями о судебной фотографии и киносъемке, о внешних признаках человека, о следственной версии и т. д.[92]
Т. С. Волчецкая также разграничивает криминалистические теории и учения на общие и частные. В ее научном видении общие теории должны содержаться в разделе «Теоретические и методологические основы криминалистики»[93]. К таковым теориям она относит теорию криминалистической идентификации, криминалистические теории прогнозирования, причинности, моделирования, принятия решений и криминалистическую ситуалогию. Структурными компонентами общей теории она определяет частные теории, применимые к другим разделам криминалистики или представляемые собой часть какой-либо общей криминалистической теории. К частным криминалистическим теориям ею отнесены учения о розыске, о личности преступника, теория криминалистической классификации преступлений и т. д.[94]
Сторонником выделения общих и частных криминалистических теорий, учений является и А. А. Эксархопуло. Однако их перечень и место в системе криминалистики определяются с учетом авторского видения проблематики. Он предлагает свою модель системы криминалистической науки, представленную пятью структурными компонентами: «1) введение в криминалистику; 2) теоретические основы криминалистики; 3) криминалистическое учение о преступлении; 4) криминалистическое учение о средствах и способах познания события преступления; 5) криминалистическая стратегия»[95].
«Общие теории и учения им выделены во второй части и представлены основами криминалистического учения о преступлении, организационными основами борьбы с преступностью, теорией криминалистической идентификации и диагностики и т. д. (перечень не является исчерпывающим). Частные теории и учения рассматриваются в иных разделах. Например, по его мнению, учения о личности преступника, о способах совершения и сокрытия преступлений, криминалистическая виктимология, криминалистическая классификация преступлений должны разрабатываться в разделе «Криминалистическое учение о преступлении» и т. д.»[96].
По поводу научных воззрений второй группы ученых следует отметить следующее. «Выделение среди криминалистических теорий общих и частных, очевидно, должно было бы упорядочить их систему. Однако, анализируя рассмотренные выше взгляды по данному вопросу, их разграничение привело к выделению различных, а точнее наиболее разработанных и значимых с точки зрения каждого ученого, как общих, так и частных теорий и учений. Более того, не всегда представления о состоятельности (либо неразработанности) той или иной теории (учения) совпадают»[97].
В качестве общего вывода укажем о том, что на сегодняшний день в науке не сформировано единого представления о месте криминалистических теорий, учений в системе науки.
В этой связи справедливыми представляются утверждения С. В. Лаврухина и Ю. С. Комягиной о существовании в настоящее время проблем взаимосвязи различных теорий и учений, о наличии неразрешенной сложной задачи их синтеза в общей теории криминалистики[98]. Прав и С. И. Коновалов, который, исследуя теоретико-методологические проблемы криминалистики, указал на объективную необходимость, целесообразность применения обобщающих процедур в построении и уточнении общей теории криминалистики[99]. По данной проблематике И. П. Можаева отмечает: «…необходим выбор первоосновы, которая послужит для решения задач объединения частных криминалистических теорий и криминалистических учений; развития их научных положений и рекомендаций; определения подхода к криминалистическому познанию в целом»[100]. Данные замечания представляются весьма обоснованными.
Следует также отметить о том, что в современных условиях развития криминалистической науки наблюдается общая тенденция существенного расширения перечня криминалистических учений и теорий. С одной стороны, данное явление можно определить в качестве фактора развития науки, с другой – необходимо рассмотреть целесообразность создания многих учений, теорий и определить их соответствие установленным требованиям по формированию.

