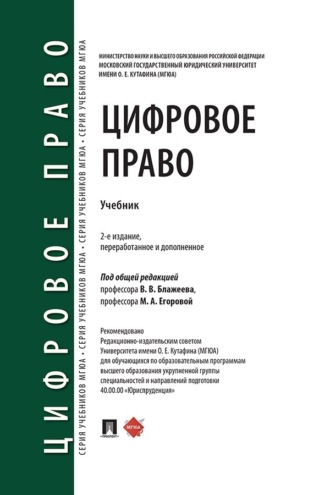
Полная версия
Цифровое право. Учебник
Согласно п. 1 ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу. Понятие «цифровые права» получило легальную прописку и рассматривается как разновидность имущественных прав (ст. 128 ГК РФ).
Теперь более подробно перейдем к вопросу о цифровом праве. Как всегда, вопрос о понятии «цифровое право» является дискуссионным. Связано это прежде всего с тем, что в одном понятии или определении достаточно сложно отразить всю сущность глобальных изменений. Кроме того, едва ли возможно учесть динамику изменений в данной сфере. И, скажем, не только. В отечественной науке любой вопрос – предмет оживленной дискуссии.
Существенному изменению под воздействием цифровых технологий подвергаются все компоненты права. Так, традиционно субъектами права являются физические лица, юридические лица (организации), государство. Однако в условиях цифровизации технологически обусловлено появление новых субъектов, например роботов. Европейским парламентом уже одобрены нормы гражданского права о робототехнике (16.02.2017). Появляется новая «цифровая личность», новый субъект права наряду с человеком[18].
Существенные изменения наблюдаются и в таком компоненте права, как объект. Информация становится универсальным объектом права, существующим в любой правовой отрасли[19]. Более того, появляются новые объекты гражданских прав. Среди них цифровые рубли и цифровые права. В настоящее время мы можем констатировать, что по поводу цифровых финансовых активов (или цифровых прав), своего рода «неюридических субстанций», выражаются интересы и выстраивается взаимное поведение субъектов гражданских отношений, что является необходимой предпосылкой возникновения, существования, развития и осуществления гражданского права как такового.
Динамичнее всего развиваются и подвергаются изменениям в связи с воздействием технологического фактора общественные отношения, составляющие предмет цифрового права.
«Цифровизация» экономики оказывает существенное влияние на сферу правового регулирования. Между субъектами правоотношений начинают складываться новые общественные отношения. Так, в сфере правового регулирования наблюдается появление отношений:
1) субъектами которых являются виртуальные или цифровые «личности»;
2) связанных с юридически значимой идентификацией личности в цифровом пространстве;
3) возникающих в связи с реализацией прав человека в цифровом пространстве (право на доступ в Интернет, право на забвение, право на «цифровую смерть» и др.);
4) ориентированных на применение робототехники;
5) складывающихся по поводу нетипичных объектов – информации, цифровых технологий (финтех, регтех и др.), создаваемых посредством применения новых цифровых сущностей (криптовалюты) и объектов материального мира, а также связанных с использованием и оборотом того и другого;
6) сопряженных с:
• использованием оцифрованных информационных массивов: баз данных, в том числе больших данных;
• переводом в цифровую форму действий и операций, посредством которых реализуются государственные функции, оказываются государственные и муниципальные услуги, обеспечивается электронное участие граждан в управлении обществом и государством;
• совершением действий в цифровом пространстве, направленных на возникновение, изменение и прекращение правоотношений, реализацию прав и исполнение обязанностей, образующих их юридическое содержание;
• применением автоматизированных действий (Интернетом вещей), обеспечением информационной безопасности и др.
Сфера правового регулирования становится мультисодержательной: в ее пределах не просто возникают новые отношения, но существенно изменяется ее структура, модифицируются сложившиеся связи.
Указанную сферу образуют как типичные, так и нетипичные для нее с точки зрения субъектного состава, объектов и среды существования общественные отношения, включая те, которые практически исключают непосредственное участие человека. Все чаще возникают общественные связи и отношения, составы фактических обстоятельств, а также события, происходящие помимо воли людей. В структуре сферы правового регулирования появился новый элемент – отношения, которые должны быть, но на данном этапе объективно не могут быть урегулированы правом в необходимом объеме»[20].
Таким образом, вышеперечисленные направления деятельности в области применения цифровых технологий свидетельствуют о том, что в настоящее время формируется цифровое пространство.
Кардинальные изменения происходят не только в общественных отношениях, регулируемых правом, но и, как следствие, в принципах и методах правового регулирования. Современный этап развития гражданского общества свидетельствует о происходящей трансформации принципов и методов правового регулирования общественных и экономических отношений.
Правовые принципы – это выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание (основы) и закрепленные в нем закономерности общественной жизни[21]. Они (принципы) обладают рядом свойств, что ставит их в один ряд с другими системообразующими факторами правовых образований, такими как предмет и метод правового регулирования, правовые презумпции. Далее отметим, что принципы права – это его сквозные «идеи», которые пронизывают права. Однако указанные начала не представляют собой что-то абстрактное. Напротив, они являются не чем иным, как идеологическим (надстроечным) отражением потребностей общественного развития. В них (принципах) получают выражение не только основы права, но и закономерности социально-экономической жизни общества[22].
В литературе принято подразделять принципы на общие и специфические (отраслевые, межотраслевые). Кроме того, в правовой науке выделяют принципы отдельных институтов (например, принцип надлежащего исполнения договора). К числу общих принципов можно отнести принципы законности, справедливости, юридического равенства, социальной свободы, демократизма, верховенства закона и др.
Основные начала гражданского законодательства (читай: принципы гражданского права) сформулированы в ст. 1 ГК РФ. К ним относятся следующие (основные) принципы: признание равенства участников регулируемых им отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Наряду с основными (отраслевыми) принципами существуют принципы подотраслей и правовых институтов (например, принципы вещного права, договорного права и др.).
Поэтому на фоне цифровизации общества, экономики и бизнеса актуальным является вопрос о трансформации принципов права в условиях цифровизации. В этой связи представляется интересной монография А. А. Волос, посвященная теории принципов гражданского права в современных условиях цифровизации общества[23]. В монографии рассматривается процесс трансформации отдельных подотраслей гражданского права: вещного права, договорного права, наследственного права. Правда, автор справедливо отмечает, что какой-либо серьезной трансформации принципов гражданского права нет[24].
На наш взгляд, на фоне цифровизации общества можно говорить о принципе свободы цифрового бизнеса. Правда, актуальным является вопрос, что есть цифровая свобода, поскольку она включает в себя не только право на всеобщий доступ к цифровым технологиям и информации, но и свободу выражения мнений, убеждений, творчество, а также развитие в сфере экономики и бизнеса[25]. Другое направление трансформации: свобода смарт-контрактов.
Теперь перейдем к методам правового регулирования. С общетеоретических позиций метод правового регулирования общественных отношений – это способы (приемы, средства) воздействия права на поведение людей. Эта точка зрения является господствующей в отечественной правовой науке. Профессор С. С. Алексеев пишет: «Он (метод. – В. Б.) представляет собой особые способы, средства, приемы, используемые при правовом регулировании определенного, качественно своеобразного вида общественных отношений»[26]. Причем метод правового регулирования – это совокупность способов (средств, приемов). Понятие «способ» связано с вопросом, как осуществляется регулирование, а понятие «средство» – с вопросом, что применяют для такого регулирования[27].
Аналогичной точки зрения придерживаются и представители отраслевых наук. Профессор В. Ф. Яковлев определял гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений как совокупность приемов (способов) воздействия отрасли на поведение людей[28]. По его авторитетному мнению, правонаделение – главная сущностная черта гражданско-правового метода.
И, конечно, существует и иное мнение по рассматриваемому вопросу. Например, профессор О. С. Иоффе и профессор М. Д. Шаргородский при определении метода правового регулирования рассматривали в нем выражение какого-либо одного способа опосредования общественных отношений[29].
Академик РАН Т. Я. Хабриева пишет: «В современном обществе усиливаются тенденции к укреплению самоуправленческих начал и саморегулированию в управлении различными общностями и процессами.
Появление разного рода виртуальных сообществ не что иное, как свидетельство стремления определенных групп людей выйти из-под жесткой государственной регуляции. В этих условиях оказалась весьма востребована общинная и кооперативная модели организации человеческого взаимодействия. Именно по их образу и подобию нередко формируются сетевые сообщества, потенциально способные образовывать саморегулируемую «криптосреду»[30].
Важнейшим средством наметившихся преобразований в обществе является организация различных форм и механизмов саморегулирования[31]. Саморегулирование – это самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой является разработка и установление правил и стандартов такой деятельности, а также осуществление контроля за их соблюдением (ст. 2 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон об СРО)[32]. Саморегулирование субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности осуществляется на условиях их объединения в СРО. Как видно, содержание саморегулирования – это, с одной стороны, разработка и установление правил и стандартов такой деятельности, с другой – осуществление контроля. Саморегулирование экономики в целом, а также саморегулирование отдельных видов экономической деятельности в какой-то степени противопоставляется государственном регулированию. Однако нельзя сказать, что между саморегулированием и государственным регулированием существует жесткая демаркационная линия. Напротив, они взаимодействуют между собой и дополняют друг друга в той или иной области.
Частное право дает о себе знать в различных формах экономического саморегулирования, причем практически во всех подотраслях и правовых институтах. В рамках саморегулирования проявляются также принципы и методы правового регулирования в гражданском праве. В этой связи следует более эффективно использовать такие правовые средства и методы, которые бы дополняли и укрепляли те или иные формы социального регулирования. Во многом решение этой задачи будет зависеть от реального соотношения частного и публичного интересов в данном сегменте правового регулирования.
Вслед за изменением сферы правового регулирования меняется и содержание права. Появление новых общественных отношений вызывает к жизни новые юридические нормы, ведет к изменению или отмене уже действующих.
Академик РАН Т. Я. Хабриева пишет: «Сейчас можно констатировать наличие следующих тенденций и процессов:
1) в праве появляются новые понятия и легальные дефиниции, фиксирующие цифровые личности и сущности, образующие ядро будущих правовых институтов;
2) более интенсивно задействована регулятивная статическая функция права, обеспечивающая закрепление и оформление новых правовых институтов;
3) конкретизируются права человека, что создает иллюзию возникновения нового вида прав – „цифровых“[33];
4) для целей создания цифровой экономики широко применяются инструменты публичного права;
5) динамично изменяется композиция модели нормативного правового регулирования (соотношение в ней законов и подзаконных актов);
6) по сути, происходит перенастройка законодательства на решение задач, возникших в связи с цифровизацией, посредством „цифровой прививки“ гражданскому, трудовому, административному, уголовному и многим другим отраслям законодательства.
Изменения наблюдаются и в сфере реализации права. Многие юридически значимые действия совершаются в виртуальном пространстве – заключение сделок, удостоверение юридически значимых фактов и др. В процессе реализации права все чаще используются цифровые технологии (блокчейн, умные самоисполняющиеся контракты и др.), изучается возможность применения вновь возникающих технологий, например, в РАН, Сколково. При осуществлении отдельных видов деятельности людей постепенно заменяют роботы, происходит роботизация и технологизация юридической деятельности. Коренные изменения зафиксированы в познавательно-доказательственной составляющей судебного процесса, вводятся новые виды доказательств (электронные доказательства, в частности, цифровые следы), а также судебных экспертиз»[34].
Очевидно, что в системе права назрели изменения. И перемены более кардинальные, нежели это представляется в теории права. Речь не просто о дискуссиях о системе права, какие отрасли ее составляют и сколько их, по каким критериям они выделяются. Проблема одновременно и глубже, и видна невооруженным глазом. Применение новых технологий способно вовсе переформатировать право, само это понятие, феномен, его содержание, механизм действия и прочее. И систему права соответственно[35].
В этой связи особый интерес представляет рассмотрение проблемы единства российского частного права и такого явления, как дуализм права[36].
Соотношение публичного и частного права имеет и практическое значение, так как в правоприменительной практике субъектам права необходимо руководствоваться конкретными нормами, обладающими отраслевой принадлежностью. На этом фоне существуют режимы публичного и частного права.
Надо согласиться с мнением профессора С. С. Алексеева о том, что публичное и частное право – это не отрасли, а целые сферы, зоны права (суперотрасли). Причем такое деление права не только и, пожалуй, даже не столько классификационное, сколько концептуального порядка. Оно касается самих основ права, его места и роли в жизни людей, его определяющих ценностей[37]. С этой точки зрения выделение публичного и частного права в их чистом виде позволяет провести разграничение между ними и соответствующими отраслями объективного права.
На протяжении двадцатого столетия в советской юридической литературе сложилась устойчивая позиция, в соответствии с которой критериями определения отраслей права являются предмет, принципы и метод правового регулирования общественных отношений. В настоящее время в юридической науке определилась тенденция расширить перечень отраслей права, обосновать отраслевой статус институтов права и подотраслей права[38].
Представляется, что «цифровизация права» в какой-то мере усугубляет общую проблему о критериях, позволяющих отнести ту или иную отрасль (подотрасль, институт) к публичному либо частному праву. Отметим, что в юридической литературе было предложено несколько теоретических конструкций по данной проблеме, среди которых можно выделить три основные концепции: теорию интереса, теорию метода, теорию предмета правового регулирования[39]. Вместе с тем ни одна из рассматриваемых концепций не позволяет провести четкое разграничение между публичным и частным правом.
Цифровизация катализирует стирание граней между отраслями права. Информация и технологии пришли уже в каждую отрасль, они становятся общим знаменателем и способны определять единую логику права. Ценность отраслевых границ снижается в правовой практике, что неминуемо влияет и на теорию права[40]. Напротив, в реальной действительности между публичным и частным правом не существует так называемой «Китайской стены». При этом наблюдается процесс публицизации отдельных отраслей частного права[41].
«Публицизация» частного права – закономерный процесс. На этом фоне принципиальным является вопрос о том, что именно подвергается «публицизации», гражданское право и (или) гражданское законодательство. На наш взгляд, «публицизация» охватывает и гражданское право, и гражданское законодательство. Например, институт юридических лиц относится к гражданско-правовым средствам (ст. 48 ГК РФ). Однако порядок (процедура) их государственной регистрации носит административно-правовой характер (ст. 51 ГК РФ). Провести условное разграничение между ними по отраслевому критерию не вызывает трудностей[42]. Вопрос заключается в другом: следует ли производить чистку гражданского права (равно как гражданского законодательства) от инородных норм в целях сохранения цивилистического целомудрия?
Таким образом, право находится на пороге перемен под влиянием технологического фактора. Выделяемые в теории основные признаки права (система общеобязательных норм, санкционированных государством, выражающих государственную волю и обеспечиваемых государством) в цифровую эпоху теряют прежний смысл[43]. Мы являемся свидетелями формирования нового правового образования – цифрового права. Сегодня можно говорить даже о наличии ряда признаков цифрового права как комплексной отрасли права.
В этой связи стоит отметить, что в дискуссии по вопросам системы права ряд ученых встали на путь отрицания отраслей права (Ц. А. Ямпольская, Р. З. Лившиц, И. А. Танчук). Представители данного направления в науке предлагали отойти от отрасли права и признать систему законодательства и отрасль законодательства. Однако данное направление не нашло своего закрепления в науке и большого числа последователей[44]. Возможно, именно сейчас данные концепции находят свою актуальность. Профессор Г. Ф. Шершеневич справедливо указывал, что теоретическая, педагогическая и практическая причины приводят к необходимости разделить действующее право по отделам[45]. Если следовать вышеуказанной логике, то система российского права состоит из отдельных отраслей права, между которыми постоянно проходят тектонические процессы, одни отрасли права умирают, но появляются другие отрасли[46].
Многие сегодня говорят о цифровом праве как уже о самостоятельной отрасли права. Но при этом следует помнить, что главным является единство системы права, которое обеспечивается рядом факторов: единство предмета правового регулирования, наличие специальных принципов и метода права. Вместе с тем вывод о самостоятельности и сформированной отрасли цифрового права пока представляется преждевременным. Однако теоретические и практические причины приводят к необходимости исследовать понятие «цифровое право». Процесс формирования цифрового права фактически и представляет собой цифровизацию права, которая будет иметь постоянную тенденцию к увеличению.
В перспективе в силу логики процесса цифровизации объективно складываются предпосылки для формирования нового направления правового регулирования – цифрового права, которое будет включать систему нормативных актов, технических регламентов и норм, соглашений участников внутри технологических платформ для обеспечения стабильности и развития цифрового гражданского оборота. При формировании цифрового права как самостоятельного направления правового регулирования, с точки зрения авторов, оправдан подход с использованием цифровых технологий, технологических платформ (комплекса цифровых технологий), объединяющих информационные, коммуникационные, производственные и иные современные технологии, для регулирующего воздействия на цифровой гражданский оборот.
Цифровое право в объективном смысле представляет собой структуру нормативных правовых актов (включая международные договоры в области цифрового гражданского оборота) и акты локального действия (правила, соглашения) в технологических платформах. Цифровое право регулирует общественные отношения в сфере цифрового гражданского оборота с участием нематериальных цифровых объектов, обладающих объявленной или действительной коммерческой ценностью (экономическим содержанием), признаваемые законом и основанные на принципах создания и действия комплексных технологий (технологических платформ) распределенного реестра или иных цифровых технологий (искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, криптовалюты и токены, облачные вычисления и др.)[47].
К числу отношений, составляющих предмет цифрового права, относятся, например, отношения:
• по владению, пользованию и распоряжению цифровой собственностью, цифровыми активами;
• личные неимущественные права, складывающиеся в связи с использованием цифровых технологий, в результате использования таких технологий и в целях создания новых цифровых технологий и иных объектов цифрового права;
• в сфере образования, связанные с использованием цифровых технологий;
• связанные с использованием цифровых технологий в государственном секторе;
• связанные с использованием цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов;
• по предупреждению и пресечению нарушений, складывающихся в связи с использованием новых цифровых технологий, направленные на обеспечение соблюдения прав человека и свобод человека и гражданина, интересов лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, защиту от незаконного посягательства на собственность, в том числе на интеллектуальную собственность, честь, достоинство и деловую репутацию.
Итак, совокупность указанных отношений представляет собой тесно связанный с отношениями, составляющими предмет регулирования иных отраслей права, но специфичный и достаточно обособленный предмет цифрового права.
На современном этапе развития российского законодательства основные направления преобразования нормативной базы в контексте становления цифрового права следующие:
• разработка понятийного аппарата цифрового права, закладывающего фундамент для развития дальнейшего правового регулирования;
• определение особенностей правоотношений, составляющих предмет цифрового права, выявление их видов, а также юридических фактов, влекущих возникновение таких правоотношений;
• выявление наиболее типичных возможных нарушений прав и законных интересов участников правоотношений, составляющих предмет цифрового права, формирование нормативной базы, направленной на предупреждение и пресечение таких правонарушений, в том числе привлечение к ответственности лиц, совершивших указанные нарушения.
Соответствующие направления развития и преобразования также должны найти свое отражение в юридической доктрине.
§ 3. Цифровое право в системе отраслей российского права
А. В. Минбалеев
Как отмечалось в предыдущих параграфах учебника, природа цифрового права сегодня весьма неоднозначна. У цифрового права сегодня имеются и признаки комплексной отрасли права, некоторыми авторами предлагается выделять ее уже как самостоятельную отрасль права. Достаточно серьезно обосновывается и точка зрения, что «нормативный массив, образующий правовую основу цифровой экономики, уже не только формируется, но и функционирует, относится к своего рода „циклическим правовым массивам“, которые „являются основным драйвером и магистральным направлением интеграции и дифференциации права в эпоху цифровизации“»[48].
Цифровое право по своей природе как правовое образование является регулятором цифровых отношений, которые охватываются разными отраслями права.
Рассмотрим основные подходы, которые сегодня активно развиваются.
1. Прежде всего цифровое право – это система правовых норм, обеспечивающих развитие принципиально новой сферы общественных отношений – системы общественных отношений в цифровой среде. С этой точки зрения цифровое право можно в какой-то мере противопоставить праву, регулирующему отношения в офлайн-среде (нецифровой). Цифровое право в этом случае можно рассматривать как специальную систему регулирования всей совокупности общественных отношений цифровой среды, формирующуюся на основе специально создаваемых для этих целей механизмов. В рамках данного механизма основной особенностью, как нам это видится, является уникальное переплетение и взаимодействие правовых и иных регуляторов цифровой среды, их взаимопроникновение и взаимовлияние, формирование, по сути, симбиотических связей. В этой связи развитие цифрового права видится как развитие регулятора мультисистемного характера. В некоторой степени это «мегаотрасль», которая направлена на отношения, складывающиеся онлайн в рамках цифрового пространства. Цифровое право фактически превращается в определенную юридическую фикцию с позиции использования слова «право», поскольку эта система разных регуляторных механизмов, в совокупности оказывающих влияние на развитие цифровой среды.











