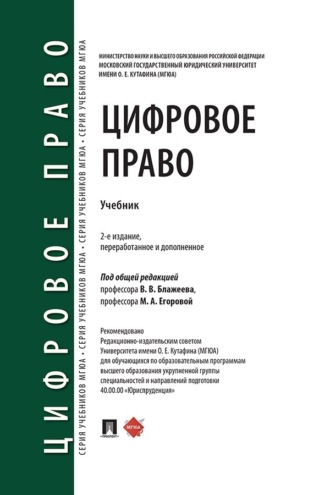
Полная версия
Цифровое право. Учебник
Можно прогнозировать некоторые параметры будущего правопорядка. Объем формальной правовой системы значительно уменьшится. Поменяется и ее архитектура: функционал юрисдикционных учреждений модифицируется в направлении фундаментирования массового прикладного права новой документарной природы. Прикладная правовая система как часть правопорядка уже сейчас соответствует природе массового правового сознания населения, которое живет, в принципе, в автономном режиме от формальных регуляторов и не стремится видеть в формальном праве свою повседневность.
Этот вековой раскол массового и официального правового сознания не может быть преодолен в рамках классической правовой системы. Обыденное, повседневное право давно уже нуждается в максимальном упрощении и алгоритмизации. В различных частях официального правопорядка налицо тенденция к упрощению юридической формы. Однако в рамках классического правопорядка эта тенденция не может обрести целостность и эффективную универсальность.
Цифровая же среда – именно то пространство, которое закономерно притягивает к себе массовое правосознание. Это та вечно искомая альтернатива, которую создает нынешний правопорядок и к которой, вероятно, шло все предшествующее развитие правового способа жизни людей.
Противоречия и конфликты, разрешенные на определенное время европейскими и североамериканской революциями XVII–XVIII вв., накоплены правом в невиданных масштабах в Новейшее время. Способ разрешения этих противоречий может дать не очередная социальная революция, а революция техники, если она сумеет приобрести глобальное социальное значение.
Этот процесс не может быть безболезненным и бесконфликтным. На определенном этапе неизбежны коллизии и противоречия виртуального и классического правовых укладов. Цифровое право по мере открытия новых возможностей автоматизации человеческой жизни будет задавать действующему правопорядку серьезные антиномии и дилеммы.
Эти конфликты нуждаются в смягчении. Задача науки – прогностическая: выявление путей оптимального перехода к новой регуляторной основе цифрового права. Применительно к формальному праву таковой основой были и есть юридические дозволения, запреты и позитивные обязывания.
Сохранится ли эта основополагающая матрица в основе цифрового права? Резкая смена правовой парадигмы невозможна. Скорее всего, будет происходить врастание и борьба новых регуляторов со старыми, сохранение последних по форме с переменой сущности. Это обычный путь зарождения новой юридической эпохи.
Сейчас развитие идет по вполне закономерной линии нивелирования контрастных граней правового дозволения и запрета, создания моделей инструментов, не имеющих однозначных и абсолютных юридических номинаций. Будущее цифровое право будет лишено классической правовой гармонии императивных и диспозитивных методов, на сочетании которых строится современная правовая система.
Цифровой мир неуклонно расшатывает привычную дихотомию методов правового регулирования, с новой силой заставляет изобретать комплексные режимы воздействия, которым часто нет названия в понятийном аппарате правоведения. В итоге – освобождение от ограничений, которые устарели и сковывают творчество человека, сопровождая традиционное правовое регулирование.
Речь идет о движении к новой эпохе индивидуализации в праве. Не индивидуализации в смысле правового индивидуализма, а к такой правовой модели, которая делает индивидуальный правовой статус демократическим в глубоко правовом смысле, частью новых значительных социальных и технологических возможностей людей. В этом отношении индивидуализм цифровых трансакций выступает закономерным элементом коллективистского технологического и социального устройства общества.
Право может дать человеку новое качество жизни, новую свободу. Снять пределы римского права в возможностях его институтов – означает создать радикально новое правовое регулирование. Пределы гибкости римского права поистине безграничны. Со времен Средневековья возрожденное римское право и иные западные и восточные правовые традиции образовали множество новых обходных направлений и регуляторов. Традиционный правопорядок идет по пути бесчисленных комбинаций их исходных институтов, аналогий и ассимиляций. Но даже эти почти безграничные возможности остановились перед беспрецедентным творчеством человека, поставив в повестку дня проблему пересмотра классической правовой традиции.
Цифровое право может состояться только на основе отказа от предыдущей регуляторной практики. Оно сможет быть правом через уход от нормативов современной правовой доктрины.
Сейчас кажется невероятной смена базовых моделей права. Договор, деликт, субъект, ответственность, юридическое лицо, правоотношение, правоприменительный акт обладают колоссальной социальной обоснованностью и устойчивостью, близкой к вечности. Эти инструменты продолжают определять логику имплементации новых технологий. Сейчас в этот фундаментальный ряд идет активная интервенция новой технологической реальности, порождая все больший диссонанс в правовой системе.
Поэтому предстоит во многом заново определить понятия и категории права, связи его институтов, модели квазисубъектов, построить иную систему правовых взаимодействий, представительства применительно к новому правовому пространству и времени. Неизбежна смена воззрений на классическую теорию правонарушения, юридической ответственности, построение юрисдикционных структур.
Цифровое право не возникнет само по себе, как не возникло и само классическое право. Кто сыграет роль новых преторов и эдилов? Были ли преторы и иные магистраты юристами в нашем понимании? Были ли юристами римские жрецы, которые в легендарную эпоху владели тайной права? Скорее всего, создать новое цифровое право под силу людям, соединяющим знание правовой традиции со свободным технологическим мышлением. Римское право первоначально было набором преторских эдиктов и лишь впоследствии, в Средние века и Новое время, регенерировало свою теорию. Цифровое право проходит тот же путь.
Будущий правовой уклад возникает далеко не в структурах юридической корпорации. Площадки нового правового генезиса уже есть в бизнесе, академической среде и прикладных сферах человеческой деятельности: электронной торговле, бизнес-технологиях, банковской сфере, медицине.
Важно теоретически осмыслить базовую картину изменений, которые неуклонно трансформируют действующую правовую парадигму. Необходимо концептуально сформулировать наши ожидания последствий диффузии цифрового права. Важно предупредить развитие цифрового права в непредсказуемые и асоциальные формы.
Речь идет об ограничении альтернатив в самом процессе цифровизации: ограничении не методами аналоговых правовых средств, а через стимулирование развития цифрового мира в конструктивных правовых направлениях. В теоретической плоскости возникает вопрос нового правового языка, который должен в известной мере вытеснить прежний.
Конечно, свое слово может сказать фундаментальная наука права, которая не должна быть озабочена сиюминутным правовым регулированием, на что ее постоянно сворачивают. Ведомства, играющие сейчас основную роль в создании нормативного цифрового порядка, делают важную работу, но в стратегическом отношении бесполезны, так как действуют в рамках уже известных правовых моделей.
Необходимы большие методологические и структурные идеи в праве, которые были бы способны приводить к решению застарелых юридических проблем. Одной из таких идей является идея цифрового права: не как регулирование цифровых технологий, а как новая правовая методология правообразования и правореализации. Современному праву недостает сегмента, инвестирующего юридическую нормативность напрямую от человека к обществу. Праву остро необходима предметная сфера, которая по определению никогда не рассматривалась правовой: наука, техника и технологии.
Господствующая модель юридического пространства – экономика, политика, управление – во многом себя исчерпала, привела к истончению собственно правовых идей, растворила право в чужой для него методологии. Симбиоз права и технологий способен создать новый тренд в правовом развитии. Мы остановились перед понятием нормы как правила, что не позволяет праву проникнуть в чуждые такому представлению о норме сферы жизнедеятельности человека. Норма – это не только и не столько индивидуальное или общее правило. Норма – это ситуация со многими элементами, включающая программные единицы, понятия скорости, контекстуальности и пространственности.
Профессиональную традицию права изменить очень сложно, если вообще возможно. От нее можно только отказаться, как уже не раз было в истории правового регулирования. Право как привилегия в свое время радикально сменилось правовым равенством; деление людей на свободных и несвободных, базирующееся на традиции и римском праве, казавшееся естественным, ушло в прошлое. Нынешнее право при всем его многообразии также, по сути, оперирует достаточно ограниченным кругом альтернатив и общественных институтов.
Почему же при стольких проблемах до сих пор не произошла революция права, не сменилась его эпоха? Необходимы акторы нового права и наличие реальных поведенческих заделов. Смена эпохи возможна, когда акторами системной новизны станут огромные массы людей, самим своим бытом поставленные на роль не только субъектов правоотношений, но и правотворцев и правоприменителей.
Следует понять, что перспектива цифрового права – вовсе не в необходимости адаптировать к повседневной правовой среде цифровые технологии. Перспектива цифрового права – в новых формах социального взаимодействия, переходе к иной модели социального и правового порядков. Эта перспектива меняет в целом постановку исследовательской проблемы: от поиска средств адаптации технологий к созданию моделей правовой сферы, которая даст новые шансы человеку как социальному и биологическому виду. Перспектива – в возможностях стратегического применения правового метода в новой экономике, к новому эффективному государственному управлению, переустройству социальной сферы. Перспектива – в возможности создания новых юридических ценностей, во многом новой правовой культуры, в лоне которой исходные преимущества правовой ментальности, в том числе российской, получат наиболее естественное воплощение.
В мире накопилось много квазиправа: экономические стандарты, правила регуляторов, политическая воля. Все, что реализуется под политическим принуждением, практически рассматривается как право. Цифровое право призвано реструктуризировать именно этот аспект правовой системы, придать правовым отношениям подлинно аутентичный вид.
Право в целом – это право большинства и право меньшинства. Цифровое право дает возможность выбирать своеобразную юрисдикцию для жизни так же, как мы выбираем цифровой или аналоговый звук, изображение, способ коммуникации.
Мир нуждается в новом праве, которое было бы максимально непохожим на существующее. Действующее право много сделало для человека, для раскрытия его творческих способностей, но оно не решило застарелых проблем отчуждения, неравенства, дискриминации, коррупции, неэффективности. Если не состоится цифровое право, в любом случае мир будет искать альтернативу в радикально более жизнеспособной правовой культуре. Поэтому предчувствие миссии цифрового права связано не только с цифровой революцией. Идеология виртуального правового мышления гораздо шире этой революции. Эта идеология отнюдь не новая. Ее корни залегают в авангардном отказе от классического права начала XX в., когда советская Россия в попытке отказаться от буржуазного правосознания создала новую систему социального права.
Со времен великих социальных революций XVII, XVIII и XX вв. категории права в известной мере утратили новаторский регулятивный потенциал. Многие из них скомпрометированы последующей социальной практикой. Само понятие правового неуклонно формализуется. Как и в древние времена, право присвоено профессиональной корпорацией: социальная ответственность – юристами, права человека – политиками, суверенитет – государством и надгосударственными образованиями. Правовое регулирование переживает кризис, суть которого обозначил В. Д. Зорькин: «…Право, на которое мы все привыкли рассчитывать, теряет свой регулятивный потенциал, а правовые конструкции утрачивают былую прочность и надежность»[2].
Назревают санация и оздоровление правового образа жизни людей. Такую работу призвана выполнить значительно более независимая массовая демократическая правовая культура, не требующая непомерно затратного профессионального обслуживания.
Есть ли будущее у современного нам традиционного права? Право многообразно, его содержание и форма находятся в непрерывном движении. Традиционное право отражает объективные структуры правового мышления, которые заданы на психофизиологическом уровне. Понятие нормы как веления тесно связано с природой человеческого языка. Аналоговое право сохранится в человеческой культуре. В то же время в праве ничего заведомо и навечно не предопределено. Живой обыденный разговорный язык – естественная историческая основа права. Как ни парадоксально, этот, казалось бы, естественный для человека язык права до сих пор так и не стал близок основной массе людей, он приватизирован все более замыкающейся в себе профессиональной юридической корпорацией.
Массовое право изменит свой язык, который откроет доступ к праву большинству людей. Аналоговое право сохранится, но сохранится исключительно как профессиональный аутентичный код правового сознания, передающий ключевые стандарты правового сознания человечества.
Должно быть свободное соревнование аналоговой и цифровой правовых систем на основе селекции того, что людям более подойдет для тех или иных отношений. Вытеснение уже идет на основе конкретных нормативных фактов, создаваемых социальной практикой.
Современное право не исчезнет. Оно сформировало мышление юристов и коснулось сознания огромных масс людей. Современные правопорядки обладают мощной правовой гравитацией. Однако проблема не в путях интеграции цифрового права в действующую правовую систему, что возможно и необходимо как переходное ее состояние. Новое регулирование не остановится на встраивании и подражании. Природа цифрового права исходно иная, она не допускает воспроизводства в ином правовом оригинале. Это и драма, и одновременно значительная перспектива беспрецедентного прогресса новых правовых форм и источников.
Нивелирует ли цифровое право национальные правовые традиции? Цифровое право, скорее, изменит эти традиции, сохраняя их специфику. У каждого народа будет, вероятно, своя модель цифровизации правовой культуры. Как именно под влиянием технологий будет трансформироваться национальное правовое мышление, мы пока не знаем. Несомненно, у российского права сохранится присущая ему широкоформатная социально-правовая природа, которая сможет по-настоящему раскрыться именно в новой технологической среде. Российское право переоткроет себя, обретет новые правовые ценности. Именно в этом состоит шанс к его продолжению как самостоятельной регулятивной системы в современном мире.
Эта книга, несмотря на название, во многом построена на аналоговом правовом мышлении, которое пока единственно возможно как в правовом регулировании, так и тем более в учебном процессе. Занимаясь, однако, текущими вопросами правовой цифровизации, важно формировать правовой прогноз и пытаться исследовать горизонты.
Без таких аспектов ценность учебных монографических изданий весьма ограничена.
§ 2. Понятие цифрового права, векторы и смыслы развития
М. А. Егорова, В. С. Белых
Современное общество находится на начальном этапе глобального перехода к новому технологическому укладу, связанному с цифровой экономикой, цифровым бизнесом и цифровой революцией в целом, особенности которых определяются не только изменениями в технологиях, но и в не меньшей (если не в большей) степени состоянием общественных институтов, включая формы и модели экономической организации, механизмы государственного управления, а также общественные системы ценностей и идеологии.
Внедрение цифровых технологий в современных условиях развития технологических процессов привело к кардинальному изменению качества национальной экономики и бизнеса. В частности, многие экономические процессы трансформируются на основе новых принципов и методов управления, в основу которых заложены цифровые инновации, которые находят свое проявление в разных сферах. В связи с постоянно меняющимися экономическими процессами и динамичным развитием российского законодательства возникла острая необходимость законодательного регулирования основных механизмов и установления правовых режимов в сфере цифровых правоотношений.
Современные бренды – это цифровая экономика и цифровой бизнес. И не только. В настоящее время термины «цифровое государство, «цифровое правосудие», «цифровые права», «цифровое право» являются предметом оживленной дискуссии, что получило отражение в многочисленных публикациях.
Теперь несколько слов о понятии «цифровая экономика». Пока что наблюдается палитра разных точек зрения! Ясно, однако, что цифровая экономика – объективное явление, развитие которого – требование времени.
Член-корреспондент РАН В. В. Иванов дает наиболее широкое определение: «Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность»[3]. Далее иное определение: цифровая экономика – деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг[4]. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 цифровая экономика определяется как экономика нового технологического поколения[5]. В свою очередь, в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. содержится следующее определение цифровой экономики: это «…хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг»[6]. Перечень точек зрения можно продолжить. Возникает вопрос: зачем? Показать, что цифровая экономика – это многоаспектное понятие. Большинство понятий страдает многоаспектностью. А что дальше? В любом случае надо вовлечь понятие «цифровая экономика» в орбиту закона и придать ему статус легального термина со всеми вытекающими последствиями[7].
Как справедливо отмечает В. А. Вайпан, цифровая экономика сейчас формируется на трех уровнях, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом. К таким уровням можно отнести: во-первых, рынки и отрасли экономики (традиционные сферы деятельности), где осуществляется непосредственное взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); во-вторых, платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); в-третьих, среду, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность[8]. В России на государственном уровне было принято решение о выработке основных понятий в сфере цифровых технологий, которые могут оказать влияние на дальнейшее нормативное регулирование данных отношений. Одним из таких понятий является «цифровое право». Однако до сих пор отсутствует консолидированный закон о цифровой экономике, цифровом бизнесе, цифровых правах. Его основная задача – выработать единый понятийный аппарат и унифицировать действующее законодательство в данной сфере.
В отечественной литературе по-разному относятся к идее принятия соответствующих законов и легализации понятийного аппарата в сфере цифровизации экономики, бизнеса и общества. Действительно, то распространенно мнение о разработке тех или иных понятий, категорий, то имеет место «словесный спор», то вдруг консерватизм старого мышления – не надо дефиниций понятий, тем более размещать их в лоне действующего законодательства[9].
Цифровые технологии создают новую реальность, отличную от того физического мира, в котором мы живем. Они порождают такую технологическую среду, в которой действуют различные социальные феномены, в том числе право, система права и система законодательства. Более того, цифровые технологии начинают диктовать свои условия, к которым необходимо адаптироваться всем элементам правовой системы, в том числе институтам гражданского права. Как известно, любое развитие общества и государства влечет за собой качественное преобразование действительности и появление совершенно новых отношений и явлений. Логичным следствием такого преобразования в эпоху цифровой экономики стало появление специфичных элементов. Так, цифровой рубль, криптовалюта, токен, блокчейн, майнинг, большие данные в определенный момент стали неотъемлемой частью внедрения в повседневную жизнь новых технологий. Мы порой не задумываемся над тем, что уже являемся частью огромной экосистемы цифровой экономики и постоянно взаимодействуем с отдельными ее элементами[10]. Поэтому особенно актуальным становится вопрос о правовом регулировании соответствующих отношений, прав и обязанностей ее участников, обеспечении гарантий их соблюдения.
Фундаментальные права человека, установленные Конституцией РФ и международно-правовыми актами, конкретизируются в действующем законодательстве на каждом историческом этапе развития страны. Очевидно, наступило время конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности[11]. Цифровизация меняет мир. Происходит тотальная трансформация государства, общества и права.
Глобализация экономики проявляется в международном разделении труда национальных экономик. Российское промышленное производство (вся экономика в целом) находится в самом начале технологической цепочки. В настоящее время экономисты стали использовать для обозначения уровня развития экономики и состояния производства термин «технологический уклад». Этим понятием называют комплекс технологически связанных производств, характерных для определенного уровня развития общественного производства. В России примерно 50 % промышленности относится к четвертому технологическому укладу, 4 % – к пятому и менее 1 % – к шестому. Как видно, Россия делает в этом укладе первые шаги! Особенно это наблюдается в настоящее время, когда промышленно развитые страны перешли от концепции «индустриальной экономики» к теории информационного общества. В условиях информационной экономики повышается значение глобальных, национальных и региональных информационных сетей. Принято говорить об электронной коммерции, интернет-бизнесе, об изменениях в информационных технологиях[12].
Новые технологии существенно трансформируют не столько частный, сколько публичный сектор экономики, сферу государственной деятельности. Благодаря новым цифровым технологиям формируется и новая среда правового регулирования, в которой можно выделить цифровые технологии, технологические факторы и системы:
• Интернет вещей, промышленный Интернет (internet of things);
• искусственный интеллект (artificial intelligence) и машинное обучение и робототехника;
• технологии виртуальной и дополненной реальности (augmented reality), квантовые технологии и нейротехнологии;
• технологии на принципах распределенного реестра (blockchain), криптовалюты, токены, майнинг, смарт-контракты, ICO;
• глобальные базы больших данных (Big data);
• облачные компьютерные сервисы и вычисления (cloud computing);
• «умные» комплексы и устройства (smart everything);
• социальные сети (Facebook[13], VK, Twitter, Telegram и др.);
• киберпространство, интернет-торговля, киберспорт, киберфейк, «электронное правительство» и кибербезопасность[14].
Цифровые технологии способны менять образ права, влиять на его регулятивный потенциал и эффективность, открывать дорогу или блокировать его действие в новых измерениях социальной реальности. Векторы и пределы таких изменений до конца неясны. Вероятно, это подтверждение зарождения нового формата права – «права второго модерна». Зарождается новый подход к праву, регулирующему отношения в контексте мира цифр и искусственного интеллекта с помощью различных механизмов, интегрируя ряд регуляторов[15].
Цифровые права человека – это конкретизация (посредством закона и правоприменительных, в том числе судебных актов) универсальных прав человека, гарантированных международным правом и конституциями государств, применительно к потребностям человека и гражданина в обществе, основанном на информации. Задача государства – признавать и защищать цифровые права граждан от всевозможных нарушений, обеспечивая при этом конституционно-правовую безопасность личности, общества и государства[16]. И, конечно же, цифровые права юридических лиц, включая субъектов предпринимательской деятельности (субъектов цифрового бизнеса)[17].











