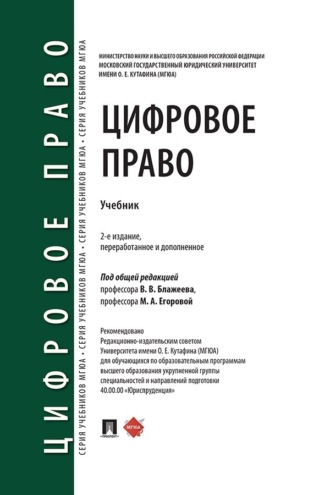
Полная версия
Цифровое право. Учебник
По нашему мнению, организация обучения цифровому праву может быть различной. Так, в магистратуре указанная проблематика могла бы стать предметом изучения:
1) дисциплины, посвященной актуальным проблемам соответствующей отрасли права. Сложно усомниться в том, что проблематика цифрового права в аспекте соответствующей отраслевой принадлежности относится к числу актуальных проблем, а ее освоение необходимо юристам современной формации. Отметим, что применение рассматриваемого подхода в качестве возможного отражено в литературе, а его реализацию объясняют «осторожностью» многих преподавателей вузов, практикующих юристов в отношении проблематики цифровой экономики, а также нехваткой в университете профессорско-преподавательского состава, обладающего необходимыми знаниями[56];
2) отдельных учебных дисциплин, входящих в программы магистратуры. Заметим, что образовательные программы магистратуры часто носят межотраслевой, межкафедральный характер. В качестве примера приведем реализующуюся в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) магистерскую программу «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)»[57], учебный план которой предусматривает изучение дисциплины «Правовое обеспечение цифровой экономики», содержание которой нашло отражение в монографическом исследовании[58].
При этом обозначим мнение о возможности комбинирования первого и второго обозначенного подходов, когда основы цифрового права являются предметом изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы права и правоприменения»[59], а углубленное получение «цифровых знаний» и навыков происходит уже на стадии освоения дисциплин вариативной (профильной) части, а также в процессе прохождения учебной и производственной практики;
3) специальных магистерских программ, связанных с изучением новых (в первую очередь цифровых) технологий, либо отдельных институтов цифрового права. Так, в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) к такого рода магистерским программам можно отнести «Цифровое право» (IT-law), «Интеллектуальные права и права новых технологий», «Цифровые финансовые технологии и право» (FinTechLaw) (сетевая форма реализации совместно с РУДН)[60].
Как учебная дисциплина цифровое право имеет свой предмет (содержание). Существенной особенностью содержания цифрового права как учебной дисциплины является высокая динамика изменений, что предопределено этапом становления цифровой экономики и ее правового регулирования. Появляются новые субъекты (виртуальные или цифровые личности) и объекты (цифровые права) права, трансформируются общественные отношения. В этой связи задачами преподавателей являются: перманентный мониторинг законодательных изменений, постоянное отслеживание появления научных статей, монографий, диссертаций по цифровой проблематике и, что естественно, ежегодная модернизация рабочих программ дисциплин (дисциплины). Уверены, в предлагаемом учебнике представлен необходимый и достаточный для изучения «набор» сведений о цифровом праве, адекватно отражающий «состояние» рассматриваемой сферы общественных отношений.
Как и любая учебная дисциплина, цифровое право преследует цель достижения определенного результата. В условиях компетентностной системы обучения таким результатом должно стать формирование компетенций (от лат. competere – «соответствовать», «подходить»), предусмотренных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС). Глоссарий ФГОС раскрывает понятие «компетенция» через совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлен и должен иметь практический опыт работы[61]. С прикладной точки зрения представляет интерес определение рассматриваемого понятия в Глоссарии европейского проекта Tuning[62]. Компетенции (Competences) трактуются как динамичное сочетание когнитивных и метакогнитивных навыков, знания, понимания, межличностных, интеллектуальных и практических навыков, а также этических ценностей. Развитие компетенции является целью образовательных программ.
Одним из наиболее распространенных подходов к определению структуры компетенции является подход, выделяющий ее когнитивную и личностную составляющие. Когнитивная составляющая включает два компонента: знаниевый и деятельностный (функциональный). Первый определяет уровень сформированности системы знаний, включает теоретические и методологические основы предметной области. Второй – степень сформированности практических навыков, позволяет оценить умение применять теоретические знания на практике, способность принимать решения как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях. Личностная составляющая определяет мотивы и ценностные установки личности в процессе осуществления деятельности, отношение к деятельности[63].
Напомним, что Перечень ключевых компетенций цифровой экономики ранее был утвержден приказом Минэкономразвития России в январе 2020 г.[64] К названным компетенциям были отнесены: коммуникация и кооперация в цифровой среде; саморазвитие в условиях неопределенности; креативное мышление; управление информацией и данными; критическое мышление в цифровой среде[65].
Как представляется, освоивший учебную дисциплину цифровое право обучающийся должен понимать значение категорий и терминов цифрового права; быть осведомленным о системе нормативного правового обеспечения цифровой экономики; знать содержание законодательных и иных актов (в том числе программ, стратегий и пр.); ориентироваться в основных правовых позициях судов по рассматриваемой проблематике; иметь представление о формирующейся теории цифрового права и основных доктринальных достижениях. Важно, что цифровизация не имеет национальности – данный процесс с разной степенью активности захватывает весь мир. В этой связи важным становится знание не только отечественных законодательных и доктринальных положений. Современный юрист должен обладать компаративистскими навыками изучения проблем, что позволит ему встроиться в глобальную цифровую среду, быть востребованным на рынке цифровой экономики, границы которой постепенно стираются. А для этого необходимо свободное владение английским языком (в идеале и иными иностранными языками).
Кроме того, успешное освоение цифрового права предопределяет также наличие элементарных (что необходимо, но не всегда достаточно) знаний в области математики, физики, информатики, иных точных дисциплин[66].
Вместе с тем мы должны помнить, что в новых условиях важно не столько снабдить студентов определенным набором знаний, сколько «научить их учиться», – данный навык необходим в «обществе знаний»[67]. В числе умений назовем самостоятельное пользование цифровыми технологиями, информационными цифровыми системами в процессе профессиональной деятельности. Важно, чтобы обучающийся обладал навыками мониторинга законодательного обеспечения цифровизации (в том числе умел отслеживать изменения законодательства уже после окончания обучения), был восприимчив к цифровым инновациям, в первую очередь правовым.
Говоря о цифровом праве, следует обратить внимание на методику его преподавания и изучения. По нашему представлению, она имеет существенные особенности, предопределенные содержанием учебной дисциплины. К таким особенностям отнесем:
1. Преобладание активных и интерактивных технологий при проведении аудиторных занятий[68], широкое применение цифровых технологий в процессе преподавания и обучения. В качестве перспективных технологий при изучении цифрового права могут рассматриваться онлайн-курсы[69]. Данная технология активно применяется в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). В качестве примера приведем онлайн-курсы «Киберправо и кибербезопасность»[70], «Цифровизация гражданского оборота: проблемы и тенденции развития»[71], «LegalTech-менеджер»[72]. Весьма эффективны онлайн-консультации, открытые мультимедийные учебники, обучение через социальные медиа, виртуальные симуляторы, мобильные игровые приложения, образовательные чат-боты и др.[73]
В контексте рассмотрения методики обучения цифровому праву отметим, что Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[74] предусматривает право образовательных организаций осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ст. 16).
В целом стратегия цифровизации обучения была реализована в ряде развитых и развивающихся стран, что позволило им занять лидирующие позиции в мировом инновационном образовательном пространстве[75]. Среди таких стран в первую очередь назовем США[76], Южную Корею[77], Францию[78], Ирландию, Финляндию, Турцию, Китай, Индию[79]. В сентябре 2020 г. Европейской комиссией был утвержден обновленный план действий в области цифрового образования (2021–2027) «Перезагрузка образования и профессиональной подготовки для цифровой эпохи», в котором излагается видение Европейской комиссией высококачественного, инклюзивного и доступного цифрового образования в Европе. Новый план действий имеет два стратегических приоритета: 1) содействие развитию высококачественной экосистемы цифрового образования; 2) повышение цифровых навыков и компетенций для цифровой трансформации. План действий в области цифрового образования является ключевым фактором, способствующим реализации видения создания Европейского образовательного пространства[80].
Поскольку вектор на применение цифровых технологий в России уже стратегически задан, актуальной остается изучение лучших зарубежных практик с возможной их адаптацией к российским реалиям. Для преподавания цифрового права данная задача особенно актуальна.
2. Акцент на практикоориентированные виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. При изучении проблематики самостоятельной работы и ее роли в образовательном процессе нами было проведено социологическое исследование с целью выявления мнения учащихся[81]. Его результаты показали, что обучающиеся в бакалавриате, специалитете, магистратуре, равно как и аспиранты, отдают предпочтение тем заданиям для самостоятельной работы, которые формируют у них конкретные навыки и умения, необходимые в правоприменении. Уверены, что при обучении цифровому праву данные позиции приобретают новую окраску – цифровизация всех сфер жизни общества требует формирование «цифровых навыков», что предопределяет пересмотр системы и формата самостоятельной работы студентов.
3. Использование электронных ресурсов при проведении промежуточной аттестации. Следует отметить, что действующие нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность, содержат широкий спектр моделей промежуточной аттестации, что вполне соответствует вызовам времени. В частности, предусматривается возможность проведения промежуточной аттестации в электронной информационно-образовательной среде (по форме аттестация может быть внеаудиторной и аудиторной), что может быть рекомендовано применительно к курсу цифровое право[82].
4. Ориентация на обладающие внедренческим потенциалом практикоориентированные проекты при подготовке магистерских диссертаций. Учитывая потребности работодателей в адаптации бизнеса и иных видов профессиональной деятельности к требованиям цифровой экономики, такие проекты могли бы стать весьма востребованными. В перспективе может быть рекомендован переход к подготовке магистерских диссертаций в форме стартапов, такая практика уже складывается в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА)[83].
При этом очевидно, что магистерские диссертации по цифровой проблематике должны быть комплексными, межотраслевыми. Как справедливо указано в литературе, большинство тем, связанных с правовым обеспечение цифровой экономики, «находится в разрезе междисциплинарного научного поиска и требует специальных знаний не только в правовой области, но и в иных науках, в том числе технических, наукоемких. Технологическая реальность должна быть проанализирована и систематизирована с учетом ее опосредования в правовой среде»[84].
Большую роль в освоении любой учебной дисциплины играет ее учебно-методическое обеспечение. Применительно к учебной дисциплине цифровое право оно уже сформировано.
Как представляется, система учебно-методического обеспечения цифрового права должна включать:
1. Учебники и учебные пособия. Позволим себе выразить уверенность, что учебник «Цифровое право», первое издание которого увидело свет в 2020 г.[85], внес большой вклад в дело ликвидации цифровой безграмотности и содействовал освоению обучающимися компетенций цифровой экономики.
Обратим внимание на проблему подготовки web-учебников. В первом приближении такие учебники органичны цифровой экономике и должны стать активными помощниками при изучении именно цифрового права. С другой стороны, как показало проведенное нами социологическое исследование[86], респондентам (студенты магистратуры и бакалавриата, аспиранты) импонирует обладание учебником на бумажном носителе с возможностью доступа к нему в электронном виде. Подобная единодушная позиция заставляет искать компромисс и не принимать скоротечных необдуманных решений по искоренению учебной литературы традиционного формата.
2. Монографическую литературу. Такая литература в настоящее время присутствует на книжном рынке России. В качестве рекомендуемых изданий приведем:
• Проблемы создания цифровой экосистемы: правовые и экономические аспекты / Е. Н. Абрамова, С. Н. Белова, В. А. Вайпан [и др.]. М.: Юстицинформ, 2021. 276 с.;
• Цифровая экономика: концептуальные основы правового регулирования бизнеса в России / отв. ред. В. А. Лаптев, О. А. Тарасенко. М.: Проспект, 2020. 488 с.;
• Правовое регулирование цифровой экономики в современных условиях развития высокотехнологичного бизнеса в национальном и глобальном контексте: монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, М. А. Егоровой. М.: Проспект, 2019. 240 с.
Как отмечает В. Н. Синюков во Введении к данному изданию, монография носит поисковый характер и может рассматриваться как попытка сформулировать концепцию государственной правовой политики в сфере цифровизации экономики. Этим работа представляет теоретическую и практическую ценность для законодателя, научных и практических работников.
От себя добавим: названные и иные монографии могут использоваться в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности обучающихся, восполняя нехватку учебной литературы и формируя исследовательские компетенции будущих юристов.
3. Диссертационные исследования по цифровой проблематике. Сегодня, когда идет процесс становления доктрины (от лат. doctrina – «учение», «наука», «обучение», «образованность») цифрового права, ученые находятся на ее передовых рубежах. Появляются «пионерские» диссертации, ознакомление с которыми позволит совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; воспринимать, анализировать и реализовывать инновации в профессиональной деятельности; квалифицированно проводить самостоятельные научные исследования (в том числе при подготовке магистерской диссертации). В числе примеров таких диссертаций по специальности 5.1.3. «частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки)» (ранее – 12.00.03. «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право») назовем:
• Терентьева Л. В. Судебная юрисдикция по трансграничным частноправовым спорам в киберпространстве: дис… д-ра юрид. наук. М., 2021;
• Морхат П. М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2019;
• Карцхия А. А. Правовое регулирование гражданского оборота с использованием цифровых технологий: дис… д-ра юрид. наук. М., 2018.
4. Научные статьи. Следует отметить, что научные статьи – наиболее динамичный сегмент в системе учебно-методического обеспечения цифрового права. Авторы научных статей помогают читателю осмыслить правовые основы цифровой экономики в целом, проследить трансформацию отдельных сфер и видов деятельности, осмыслить модернизацию отраслей права, уяснить содержание и значение элементов цифрового права и методики его преподавания.
Важно обратить внимание на появление специализированных журналов в области цифрового права[87], а также специальных тематических выпусков отраслевых журналов, полностью посвященных проблематике цифрового права.
В заключение отметим, что учебная дисциплина цифровое право – важный элемент образовательных программ, а ее изучение и освоение – необходимый шаг на пути подготовки высококвалифицированного, отвечающего запросам работодателя и потому востребованного на рынке современного юриста.
§ 6. Цифровые правоотношения и их структура
А. В. Минбалеев
Цифровые правоотношения сегодня представляют собой огромный круг разноотраслевых правоотношений, формирующихся посредством появления новых правовых норм, регулирующих использование цифровых данных и цифровых технологий. Цифровые правоотношения можно рассматривать как урегулированные правом отношения по использованию данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.
К ключевым признакам цифровых правоотношений, которые позволяют выделить и обособить их в структуре современных информационных и иных отраслевых отношений, можно отнести следующие.
1. Возникают по поводу использования данных в цифровом виде, а также результатов анализа данных и результатов обработки и использования таких данных в различных сферах общественной жизни с использованием цифровых технологий.
2. Являются комплексными, формирующимися как в рамках информационных, так и других правоотношений: гражданских, административных, трудовых, уголовно-правовых, процессуальных и иных.
3. Универсальный характер, обусловленный возможностью использования цифровых данных и технологий практически во всех сферах общественной жизни. Не случайно цифровые технологии традиционно называются сквозными.
4. Техническая и технологическая обусловленность. Объекты цифровых отношений – цифровые технологии, а также цифровой характер данных обусловливают необходимость включения в отношения по поводу информации объектов технической природы (средства вычислительной техники, информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, непосредственно цифровые технологии), которые и выступают идентификаторами данных отношений, обусловливают их цифровую природу и опосредованность. Однако необходимо учитывать, что такая обусловленность не предполагает исключения субъекта.
5. Использование различных приемов, способов и средств правового регулирования в сочетании с техническими, организационными, этическими нормами, а также механизмами саморегулирования и сорегулирования, иными регуляторными механизмами. Важной закономерностью развития цифровых правоотношений является неопределенность набора регуляторов. Стремительное развитие цифровых технологий, появление новых делает сложным однозначное прогнозирования того, что конкретно понадобится для регулирования цифровых отношений в будущем. Задачей цифрового права в этой связи является скорейшая разработка моделей регулирования цифровых отношений, основанных на принципах дискретности и нелинейности развития, гибкости и оперативности, возможности замены тех или иных регуляторов, в том числе и правовых, для конкретных отношений.
6. Особый правовой режим объектов цифрового права. Индивидуальная направленность регулирования и обособления каждого из объектов цифровых правоотношений в рамках собственного уникального правового режима связывается как с особым набором приемов, способов и средств регулирования соответствующих отношений, так и с техническими, организационными и иными средствами, которые используются в данном процессе. Правовой режим цифровых объектов предполагает включение в каждом конкретном случае уникальных средств не только правовой, но и технической, организационной, биологической и иной природы. Так, технологии на основе искусственного интеллекта основываются на особенностях человеческого мышления и биопсихосоциальных механизмах его функционирования. Любые вопросы регулирования использования цифровых технологий в генетических исследованиях основываются на значительном количестве этических регуляторов, действующих в сфере генетических исследований. Все цифровые технологии основаны на значительном количестве технических и организационных норм, которые в той или иной форме либо трансформируются в правовые нормы, либо закрепляются как обязательные для выполнения.
Виды цифровых правоотношений. Среди классификационных критериев разграничения информации, а значит, и цифровых данных, можно выделить следующие критерии:
• степень доступности, по уровню доступа; на основании данного критерия цифровые правоотношения можно делить на открытые (общедоступные) и ограниченного доступа (на основе цифровых данных ограниченного доступа: все виды тайн, персональные данные, инсайдерская информация, кредитные истории);
• по виду используемых цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие в связи с использованием технологий обработки больших данных, технологий искусственного интеллекта и робототехники, блокчейн и т. п.;
• по характеру действий, совершаемых с цифровыми данными: отношения по сбору цифровых данных, использованию цифровых данных, обеспечению безопасности цифровых данных, трансграничной обработке цифровых данных и др.;
• по характеру используемых методов и средств правового воздействия: отношения частноправового характера, публично-правового характера, смешанные;
• по субъектам, осуществляющим использование цифровых технологий: цифровые отношения, возникающие при их использовании физическими лицами, юридическими лицами, публичными образованиями, международными субъектами.
Структура цифровых правоотношений обусловлена совокупностью объектов цифровых отношений, субъектов цифровых отношений и их содержания – совокупностью прав и обязанностей субъектов цифровых отношений.
Для цифровых отношений характерен специфический субъектный состав. Он обусловлен специфическим характером используемых цифровых технологий (роботы как субъекты права, цифровые личности, операторы больших данных, операторы автоматизированных и полуавтоматизированных систем искусственного интеллекта и др.), использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет (операторы связи, провайдеры, пользователи и др.). В рамках цифровых правоотношений можно выделять как традиционные субъекты права – физические лица, юридические лица, публичные образования (государство, субъекты РФ, муниципальные образования), так и специальные (роботизированные агенты, электронные лица, цифровые сотрудники, операторы больших данных и др.).
По объему прав субъектов цифровых отношений можно разделить на:
• обладателей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – это лица, создающие цифровые данные, цифровые технологии и на основании закона или договора обладающие правом их использования, а также правом разрешать или ограничивать к ним доступ;
• пользователей цифровых данных, цифровых прав и цифровых технологий – субъекты, которые на основании закона или договора приобретают право на использование цифровых данных, результатов их обработки, цифровых технологий;
• цифровых посредников – лица, которые оказывают информационные и иные услуги, работы на основании специальных договоров в отношении цифровых данных, прав и технологий (операторы связи, операторы цифровых технологий, провайдеры), обеспечивая права и законные интересы обладателей и пользователей.
Обладатель цифровых данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, вправе разрешать или ограничивать доступ к ним, определять порядок и условия такого доступа; использовать цифровые данные, в том числе распространять их по своему усмотрению; передавать цифровые данные другим лицам по договору или на ином установленном законом основании; защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения цифровых данных или их незаконного использования иными лицами; осуществлять иные действия с цифровыми данными или разрешать осуществление таких действий.
Права пользователей и посредников вытекают из соответствующих норм, регулирующих цифровые отношения и договоров, которые они заключают с обладателями цифровых данных, прав и технологий и третьими лицами (например, при обеспечении конфиденциальности цифровых данных могут заключаться договоры по их защите со специализированными организациями в сфере информационной безопасности).
Обладатель цифровых данных при осуществлении своих прав обязан: соблюдать права и законные интересы иных лиц; принимать меры по защите цифровых данных; ограничивать доступ к цифровым данным, если такая обязанность установлена федеральными законами. Аналогичные обязанности, а также дополнительные обязанности, предусмотренные законодательством и договорами, возложены на пользователей и цифровых посредников.











