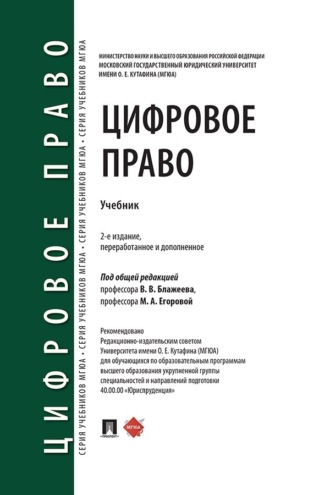
Полная версия
Цифровое право. Учебник
Глава 1
Цифровое право в современной правовой системе
§ 1. Современные технологические вызовы и трансформация правового регулирования
В. Н. Синюков, С. В. Синюков
В правовой системе России происходят фундаментальные изменения, которые с определенными оговорками можно назвать процессами этапной трансформации. Суть последней в формировании новой структуры нормообразования, которая концептуально отличается от методологии традиционной системы российского права.
Технологическая революция идет вот уже более 50 лет, переживая периодические приливы и отливы. Но последнее десятилетие значительно подстегнуло внимание государства к нормативному регулированию этой сферы.
Сейчас Россия имеет, в принципе, адекватное законодательство в сфере использования современных технологий, которое, конечно, нуждается в совершенствовании, заполнении возникающих лакун, дополнении новыми понятиями, категориями, институтами.
Мы исходим из того, что технологический прогресс носит волнообразный характер и за периодами эйфории, взрывного роста возможностей неизбежно следуют спады, показывающие, что основные проблемы в естествознании пока не нашли решения.
Яркий пример – так называемый искусственный интеллект. На самом деле, пока это понятие – чистая метафора, преодолеть барьер между человеческим интеллектом и машиной не удается. И скорее всего, не удастся, по крайней мере, в зримой перспективе. Похожая ситуация и с другими технологиями: нейронными сетями, блокчейном и т. д.
На нынешний день какого-то катастрофического отставания правовой сферы от развития цифровых технологий нет. Есть отдельные области, лакуны в законодательстве, которые можно довольно быстро закрыть либо смежными регуляторами, либо введением социальных режимов, снимающих административные барьеры на пути развития технологий.
Все это не меняет общей структуры правового регулирования. Это успокаивает нас и заставляет двигаться обычным путем реагирования и управления. Компьютеры, мобильные устройства, Интернет, притом что они перевернули жизнь людей, в целом не затронули основ правового регулирования. Надо еще доказать, что современные технологии вносят что-то новое в правовую традицию и меняют общественные отношения настолько, что они не вписываются в традиционное правовое регулирование. Резервы действующих институтов часто недооцениваются.
Пока мы находимся в ситуации недостаточно зрелых и совершенных технологий, которые значительно менее эффективны, чем уже созданные инструменты в рамках действующего правового поля.
Одним словом, на нынешний день есть постоянная тема актуализации действующего законодательства, правоприменения в связи с технологическим прогрессом. Процесс совершенствования законодательства у нас поставлен на достаточно профессиональную основу. Мы не видим здесь каких-то серьезных проблем.
Но вместе с тем есть проблема иного порядка. Вся методология нашей работы по правовому обеспечению технологических изменений основана на двух принципах.
Это принцип реагирования, т. е. решение проблем по мере их возникновения. Яркий пример – криптовалюта. Когда появились первые сенсационные сообщения и на Западе стали расти котировки, мы не знали, как к этому относиться, первая реакция было судорожной – запретить. То есть речь идет об образе действий самого обычного типа – регулирование отношений, которые уже возникли и возникают в связи с развитием цифровых технологий.
Второй принцип нашего поведения – это организовать и возглавить процесс изменений, наладить их контроль и администрирование в нормативной базы в текущем режиме.
Оба принципа и соответствующие направления деятельности абсолютно необходимы, но одновременно являются чисто утилитарными. Весь эпицентр нормативной работы государства с новыми технологическими явлениями в экономике оказался в структуре органа исполнительной власти, который, чтобы справиться с текущими вызовами, вынужден создавать возле себя и в себе квазинаучную инфраструктуру, которая по определению не может быть фундаментальной, т. к. это вело бы к смешению функций.
Вот эта ситуация реагирования опасна. Дело в том, что текущее положение быстро меняется, технологии совершенствуются. Нужен юридический прогноз, понимание контуров институтов, для которых сейчас нет применения.
Для ответа на стратегические вызовы абсолютно недостаточны усилия временных коллективов и компилятивных практик.
Такой подход в течение пореформенного периода не позволяет нам выстроить современную правовую систему со стабильным регулированием, в котором бы одновременно был заложен стратегический потенциал опережения именно в сфере права.
Яркий пример, опять же, с технологией блокчейн. Эта технология была известна довольно давно, в том числе даже еще советской науке. Она внимательно изучалась на предмет самого разного применения. Но была отвергнута из-за своей технологической затратности. И спустя несколько десятилетий эта технология была актуализирована совершенно в других сферах, в частности в кредитно-финансовой, и только таким образом стала предметом интереса юристов.
Государство и юристы каждый раз оказываются самыми последними в цепочке изменений, когда общество поставлено перед фактом, когда надо «тушить пожар» и принимать экстренные меры.
Как правило, эти меры носят разрешительно-запретительный характер и основываются исключительно на старом, проверенном веками инструментарии классического правового запрета и дозволения. Сами по себе запрет и дозволение вечны, но все же устаревают.
Насколько совместима цифровая природа естественных закономерностей с природой императивных и диспозитивных методов в правовом регулировании? Какая повестка ценностей должна быть присуща праву переходного периода? Как изменяется соотношение прав с техническими регуляторами? Такие вопросы в текущей повестке неуместны. Однако уже сейчас вырисовываются регулятивные техники, гораздо более эффективные и стабильные для всего права, чем разрешения и запреты.
Ситуация с неуклонно разворачивающейся технологической революцией требует от нас в известной мере скорректировать образ действий в правовом регулировании.
Назрела необходимость концептуализировать не только реагирование на отношения, возникающие в связи с развитием, в частности, цифровых технологий, и пытаться организовать управление процессом изменений законодательства, но и поставить вопрос значительно шире: к чему ведут эти изменения для права, какая именно модель правовых отношений соответствует цифровому обществу и какую правовую систему мы в конечном счете должны формировать в условиях нового технологического уклада. Есть основания полагать, что цифровые технологии, генная инженерия, разработки искусственного интеллекта могут привести к смене системной парадигмы правового мышления и регулирования.
В условиях стремительного развития науки, беспрецедентного роста возможностей человеческого разума меняется правовая картина мира.
Динамика правовой картины мира
XVI–XIX вв.
• право силы,
• право-привилегия,
• право как мера свободы,
• формальное равенство,
XX–XXI вв.
• техническое и виртуальное регулирование,
• новая правосубъектность,
• единство права и процесса,
• равенство возможностей.
К чему ведут глобальные технические достижения? Они влекут глубокие перемены в привычном укладе жизни. К этому приводили все технологические революции, начиная с эпохи металлов в Древнем мире и заканчивая открытием электричества и киберпространства в Новое и Новейшей время.
Современная революция в технологиях не только совершенствование орудий труда и преобразований окружающей человека среды. Особенность нынешних перемен, отличающая их от всех предшествующих эпох, состоит в том, что новый технологический уклад изменяет не только привычный образ жизни, но и природу правового регулирования. Результаты, получаемые в физике, биологии, медицине и иных областях, открывают перспективы нового этапа в понимании права, его категорий – воли, субъекта, правовой нормы, правоотношения, – представления о которых оставались неизменными последние двести лет.
Более того, впервые появляется реальная перспектива установить прямую связь между природой и правовой культурой, преодолеть фундаментальный разрыв между естествознанием, социальной и гуманитарной науками.
Основные черты юриспруденции XX в. состоят в следующем.
Юриспруденция в XX в.
• господство регулятивно-охранительного типа права,
• политическая систематизация права,
• дихотомия методов правового регулирования,
• процессуальный фундаментализм,
• автономия правовой формы.
Такая правовая методология не может систематизировать явления, связанные со следующим этапом развития возможностей человека. Нынешнее правовое мышление основано на регулятивно-охранительном типе правосознания. Поэтому юриспруденция как относительно изолированная сфера общественных отношений все более сталкивается с проблемами адекватности и эффективности.
Отставание права как социального института
• консерватизм методологии регулирования,
• негибкость формы,
• перманентные пробельность и избыточность,
• социальная изолированность,
• экономическая неэффективность.
Делается все более актуальной проблема системной правовой интерпретации происходящих социальных и технических изменений. Развитие новых технологий выдавливает традиционное правовое регулирование и опережает его в методологическом отношении. Классические юридические режимы процессуальной деятельности делаются тяжелым и дорогостоящим препятствием на пути инноваций во многих сферах.
Возможно ли сохранение системного единства правовой формы при столь бурной и сложной социальной динамике? Возможно, только на основе включения в правовое пространство новых оснований макроорганизации права.
Основные направления развития юриспруденции в XXI в.
Юриспруденция в XXI в.
• оптимизация меры права,
• диверсификация нормативности,
• интеграция технико-социального регулирования,
• движение к асимметрии правовой формы,
• синкретизм методологии регулирования.
Правовая культура ищет альтернативы иной интерпретации соотношения техники и природы человека. Границы между различными сферами знания и видами деятельности сейчас уже выглядят иначе, чем в XX в. Эти границы стали проходимыми уже в период поздней Античности, но сейчас этот процесс достиг наивысшего развития.
В чем суть нынешнего исторического времени права? Суть сегодняшней ситуации в правовом регулировании состоит в кардинально изменяющемся характере отношений человека в окружающем пространстве, появлении его новых неизвестных видов – виртуального, информационного, где фактически преодолеваются строгие границы человеческого и не человеческого как объектов материального мира.
Изменяется содержание социальности – в нее постепенно входят на правах субъектов и новых нетипичных объектов явления по старой юридической классификации имеющие неживой, несубъектный и необъектный характер: инженерия генома, биотехнологии, Интернет, искусственный интеллект.
Фактически эти технологии представляют собой гибриды, объединяющие человека с нечеловеческими сущностями, причем последние, будучи созданными, получают известную автономность от человека.
Старое разделение, на котором основывалось право физических вещей как независимых объектов, с одной стороны, и общества, культуры, состоящих из автономных субъектов, с другой, начинает переживать кризис. Право в традиционном разделении не дает надежной юридической защиты отношениям человека в мире новых технологий и уже сейчас замещается неправовыми регуляторами.
В ближайшем будущем право в его нынешней системе будет не в состоянии контролировать новые гибридные сущности. Уже сейчас институциональные резервы системы права, ее арсенал предметов, методов, аналогий, фикций и презумпций находится на пределе.
Итак, право как социальная система, может развиваться, если будет выработано новое представление о соотношении природы и правового регулирования.
Инновационные правовые явления располагаются как бы между природой и обществом и требуют дополнительных представлений на системную организацию права.
Интеграция природы и правосознания
Правосознание
• воля,
• интерес,
• запрет,
• дозволение,
• юридическая ответственность,
Природа (как элемент правосознания)
• виртуальность,
• взаимообусловленность,
• ограничение,
• закономерность,
• технологическая защита.
Значительное отличие всего предшествующего развития правовой системы состоит в том, что до сих пор юридическое мышление основывалось на собственном методе идентификации права, включающем элементы воли, интереса, цели, запрета и дозволения. Современная ситуация ведет к тому, что правовая культура вплотную приблизилась к включению в свой непосредственный предмет закономерностей новых виртуальных состояний человека. В правовое регулирование включается вся методология техники и искусственного языка техники, что ведет к существенному проницанию границ между социальными и техническими нормами.
Такого соотношения, когда неживые объекты становятся частью не просто быта людей, на чем основывается традиционное правовое регулирование, но и частью самих общественных отношений, в истории правового регулирования не было. В системе права этим явлениям пока нет коррелятов, что требует реструктуризации доктрины и взглядов на составные части и инструменты права.
Изменения в системе права

В институциональном плане правовой порядок соединяется с нарастающим полем функциональных регуляторов, которые сейчас переполняют нормативное пространство, подменяя и смешивая право с экономическим, административным и политическим нормообразованием.
Институциональные и структурные изменения в системе права
• интеграция базовых отраслей в правореализации,
• субсидиарность нормативных комплексов,
• стирание границ социальных регуляторов,
• проникновение материальных и процессуальных отраслей.
Стирание их границ уже привело к валу предметов в законотворческом и правотворческом процессах, разрастанию подзаконной сферы. Все это необходимо системно инкорпорировать, искать новую форму такой инкорпорации.
В структурном отношении базовые отрасли права стремятся к интеграции, высвобождая место новым образованиям специализированного и локального характера мультирегулятивной природы. Нормативная система стремится к большей универсальности и субсидиарности правовых комплексов на основе определенных принципов.
В доктринальном аспекте просматривается закономерность, что правовое регулирование гораздо шире и не совпадает полностью с государственным регулированием.
Социальные факторы реструктуризации права
• изменение технологических укладов,
• конвергенция социальных и технических нормативных систем,
• развитие социальных институтов,
• обновление методологии социального регулирования;
Соотношение правовой системы, системы права и социальной реальности делается гораздо более сложным. Новизна ситуации в доктрине заключается в преодолении взгляда на господство права как социального и политического доминирования его классических инструментов.
Прежде всего, в известной мере должны поменяться теоретические представления на явление системности в отечественном праве. Отраслевой подход, основанный на одномерных предметах и методах правового регулирования, не может уже выразить всю полноту природы права.
Важное значение для переосмысления методологии системы права имеют классические понятия института и нормы права.
В отличие от института традиционной системы права как совокупности однородных норм, институт как предмет (объект) права включает сложный симбиоз материальных, нематериальных и поведенческих элементов, которые в целостности характеризуют понятие института как технологии.
Чтобы увидеть структурные процессы в праве, необходимо сделать технологии предметом правового регулирования на основе взаимодействия людей и объектов неживой природы. Человекоцентризм права эволюционирует в сторону техноцентризма, не утрачивая приоритета человеческого по отношению к технико-материальным объектам.
Таким образом, правовая система в нормативном аспекте не сводится к системе права, что делает ее гораздо более гибкой. Значительный ресурс этой гибкости заложен в обыденной человеческой деятельности. Именно в изменяющейся бытовой человеческой среде заложен инновационный механизм реструктуризации права. Новый правовой строй обусловлен новым укладом жизни человека, рамки которого расширяют прежние границы отраслей и формальных кодификаций с их однообразными методами правового регулирования.
Новые социальные контексты содержат значительные элементы саморегулирования, что свидетельствует об их правовой природе, которая приходит в противоречие с матрицей старой системы права.
Необходимы дополнительные юридические понятия и категории, исходящие из специфики современной технологической системности права.
Основанием необходимости такого изменения методологии является то, что позитивное право уже не всегда есть только сфера чистого долженствования. На позитивном уровне современного правового регулирования происходит выход за пределы нормы долженствования в область нормативности фактических (технологических) процессов.
Нормативностью, вероятно, обладает технологическое пространство, которое синтезирует образ поведения участников общественных отношений. Поэтому новая сфера права – управление неживой природой, природой искусственной, виртуальной, формируемой на основе прежде всего цифровых закономерностей.
Переход от нормы долженствования к принуждающей или стимулирующей технологии интегрирует право в сферу материального технологизма, который все более проникает в систему права. В новой системе права преобладают синтетические технико-правовые режимы, которые не могут вызреть в одномерной и формальной правовой культуре.
Отражением этих процессов является появление в доктрине понятия «цифровое право».
Цифровые технологии имеют значительный регулятивный ресурс, все более становясь трансфером между природой и правовой культурой. При этом в рамках цифрового пространства природа права оказывается гораздо богаче, чем это могут выразить традиционные средства правовой систематики.
Что такое цифровое право? Обосновано ли такое научное понятие? Не является ли это сочетание своеобразной метафорой, применимой лишь в популярном и публицистическом обиходе?
С учетом процессов в технологической сфере и их влияния на правовое регулирование понятие «цифровое право» выполняет роль методологической категории, раскрывающей тенденции структурной трансформации российской правовой системы.
Цифровое право
нормы, юридико-технические конструкции,
средства информационного правового
воздействия и иные элементы виртуальных
коммуникаций, получившие признание государства
При определении цифрового права упор должен делаться не на формально-юридической, а на объективно-правовой и ситуативной сторонах правового воздействия.
Цифровое право – это нормативный правовой механизм, охватывающий и пронизывающий важнейшие элементы российской правовой системы. Главный критерий выделения цифрового права – наличие цифровой виртуальной коммуникации субъектов, сеть которой в настоящее время неуклонно расширяется.
Субъекты права сами определяют границы цифрового права, вступая в виртуальные коммуникации. В этом смысле цифровое право преодолевает формальные рамки традиционных отраслей права и их законодательных кодификаций. Цифровое право исходно не нуждается в классической правотворческой систематизации. Оно само – форма структуризации регулятивного материала.
Это явление, в котором предметы и методы регулирования совпадают: метод становится предметом, приобретает форму предмета правового воздействия, структурируя правоотношения в цифровом формате. Очертить границы цифрового правоотношения классическими средствами правоведения затруднительно. Цифровое право строится в межотраслевом и междисциплинарном техническом и юридическом измерениях. Это форма скорее правового воздействия, а не только правового регулирования.
Цифровое право создает пространство, где, в отличие от классического права, отсутствует отраслевая специализация. Оно перемешивает нормы и институты различной отраслевой природы, изменяя структуру права в классических правоотношениях. В цифровом праве классическое право сведено к минимуму, фактически к признакам признания и эффективности (этичности). Все иные признаки права – определенности, нормативности, общеобязательности – выступают в значительно преобразованном виде.
В этом смысле цифровое право – это соединение неправовых регуляторов, которые в определенных сочетаниях дают правовое качество. Цифровая среда создает юридизм нового типа. Цифровое право формирует правовое качество в доселе непредметных для права сферах, прежде всего технико-информационной и естественно-технической.
Именно поэтому вопрос классической юриспруденции, куда отнести цифровое право и есть ли такое вообще, объективным ходом развития естественных и технических наук лишается смысла. Нынешнее право уже не может навязать последним свои методы регулирования. Это объективный факт, который необходимо принять.
Тем не менее мы прежде всего должны задаваться именно классическими вопросами. Есть ли такая закономерная область правового регулирования, как классическое право в цифровой сфере? Имеется ли у этой сферы локализованное место в системе права? Может ли цифровое право рассматриваться как некое новое образование, рядоположенное с такими же комплексными нормативными массивами, как право медицинское, энергетическое, конкурентное, спортивное и т. д.?
Ответы на эти вопросы будут скорее отрицательными. Цифровое право имеет иную юридическую природу. Это не отпочковывающиеся от материнского массива нормы; это не в чистом виде нормы права, как мы привыкли их понимать; это иной способ формирования самой юридической нормативности. Цифровое право – право-поведение, образ действий в принципиально иной регуляторной среде.
Система цифрового права определяется не предметом, не методом и даже не типом правового регулирования. Цифровое право формируется цифровыми трансакциями и выступает в этом смысле как социологическая реальность, чистое живое право.
Разница между цифровым и аналоговым правом в том, что классическое аналоговое право создает порядково меньший объем и пространство правовой нормативности в единицу времени. Впервые в истории права пространство и время выступили критериями правовой дихотомии.
Поэтому цифровое право – иная правовая организация, которая в настоящее время занимает локальные позиции в правовых отношениях, но потенциально гораздо более емкая и мощная регулятивная система, чем право классическое. Цифровое право постепенно втягивает в себя из аналогового права значительные его объем и пространство. Данный процесс не ведет к замещению аналогового права цифровым. Скорее всего, аналоговое, классическое, право будет частью цифрового права, его важным позитивным элементом в сферах конституционного порядка, основополагающих прав человека, в сфере безопасности. Возможно, аналоговое право будет выполнять особую функцию визуализации цифрового права там, где это диктуется политической необходимостью. Но это тоже будет уже другое классическое право, во многом с видоизменившимися регулятивными инструментами.
В будущем, которое уже наступает, цифровое право готовит новое глобальное деление права: от частного и публичного к базовому и прикладному праву. Базовое право в целом сохранит нынешнюю регулятивную инфраструктуру, для которой будет характерна нынешняя симметрия источников и правовых институтов, нацеленных на обеспечение важнейших функций человеческого общества.
В базовом праве, как и сейчас, будут заданы ключевые этические параметры правового образа жизни человека.
В прикладном праве, основанном на закономерностях цифровой организации социальных связей, вероятнее иная система институционализации акторных взаимодействий.
Эта система рассчитана на непрерывное сопровождение бесчисленных правовых фактов, которые все более будут способны осуществляться в безбумажной форме. Именно такое прикладное право (термин условный) практически полностью займет объем правовой системы, которая преобразуется структурно, сосредоточив фундаментальное право на узловых участках правового регулирования.











