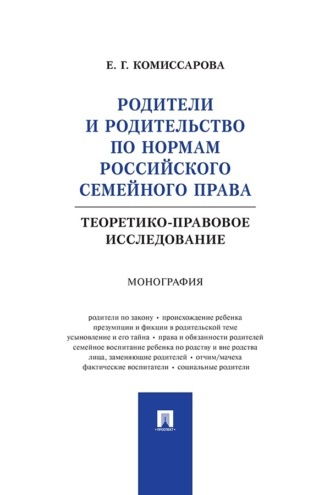
Полная версия
Родители и родительство по нормам российского семейного права (теоретико-правовое исследование). Монография
1.2. Родительство как теоретико-правовая конструкция
Обычный алгоритм научного описания родительский проблематики в семейном праве отражает правила той нормативной систематики, которая представлена в нормах Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ)[94] в виде триады, указывающей на происхождение ребенка; акт родительского признания как удостоверенный законом факт происхождения ребенка от конкретных родителей; родительские права и обязанности лиц, получивших статус родителей (гл. 10, 12 СК РФ). По законодательному замыслу, все эти три элемента задуманы как неразрывные, и эта слитность обеспечивает правовую эквивалентность тому, что стоит за понятием «родитель» в пространстве права.
Последовательность и презюмируемая цельность этого нормативного эталона, принятого социологами в качестве «юридической фикции», а юристами – «традиционной родительской универсалии, основанной на единстве матери, отца и их биологического ребенка»[95], не утратили своей актуальности. Однако под влиянием пришедших со стороны других наук взглядов на родителей, которые могут быть «другими», стали переопределяться за счет появления категоричных суждений о том, что «в новых социальных условиях родители могут быть разными, а их перечень должен быть классифицирован»[96].
Указание на «неразрывность» и «слитность» предполагает, что теоретико-правовое исследование любого из элементов названной триады с необходимостью подразумевает существование двух других ее элементов. Но так бывает не всегда, о чем свидетельствует укоренившаяся в науке семейного права традиция описывать родительскую проблематику «по частям» и практически никогда вместе. Отказ от этой смысловой связанности, предписанной нормативным контекстом, выразился в разрыве нормативных идей, юридических конструкций, правовых понятий, с помощью которых законодатель создал полноразмерный и цельный образ юридического родителя. Следствием этого разрыва стали многочисленные упрощения и допущения, связанные с некритичным привнесением в семейно-правовую теорию социологических воззрений на родителей и родительство. Не имея согласования с базовыми юридическими идеями, они невольно стали работать на деактуализацию установленной нормативной триады, исторически направляющей юридические знания о родителях.
Нехватка у юристов опыта междисциплинарного диалога при описании родительской темы не позволила увидеть те методологические препятствия, которые априори присутствуют при обращении к знанию другой научной дисциплины. В их числе предмет и метод социологической науки, описывающей не статус лица, поименованного как родитель, а реальные родительские практики с помощью количественных и качественных методов исследования такими, какие они есть в реальности. В итоге междисциплинарное сближение оказалось настолько тесным, что отличия во взглядах социологов и юристов, высказанных по поводу «разных» родителей, оказались сходными до неразличимости. Не встретив на своем пути теоретико-правовой критики и научных дискуссий, методологически бесконтрольные суждения классификационого типа стали множиться. Их объединяющим началом стала не догма права в виде «элегантной системы правил, соответствующих источникам позитивного права, согласованных между собой и способных дать ответ на любой вопрос»[97], а просторное и многосмысловое понятие «родитель» из области культурной антропологии и социологии.
Утверждать, что таких теоретико-правовых суждений больше, чем тех, которые согласованы с базовыми нормативными идеями о том, что родительский статус – это унитарный статус и назвать лицо родителем может только закон, было бы неверно. Но и отвернуться от таких взглядов также нельзя. Во-первых, потому что, при всей методологической неподготовленности, их число продолжает увеличиваться за счет автономных клип-дискурсов. Во-вторых, они явно идут вразрез с тем, что задано действующими позитивно-правовыми предписаниями. В-третьих, как будет показано далее, умаляя ценности биологогенетического происхождения ребенка, они вносят теоретический хаос в юридические знания о родителях и неоправданно искажают аналитический язык освоения проблемы.
Этот язык все больше клонится к «гибридному» в силу того, что абстрактная составляющая в юридических взглядах, обращенных к «новым» родителям, сведена к минимуму. Преобладают рациональные и прагматичные суждения, где много «от реальных фактов», которые отсылают к новшествам, проникшим в родительскую проблему в условиях участившихся случаев недолговечности брака и появления технологий вспомогательного репродуктивного лечения. Естественным следствием такой рациональности стали лингвистическая свобода, когда на один понятийный уровень ставятся понятия, указывающие на родителей по закону, и понятия, указывающие на юридически посторонних родителей[98]. Последние, находясь на положении «искусственно привязанных к праву»[99], стали не столько помощниками в развитии родительской проблематики и видении ее теоретико-правовых перспектив, сколько научным препятствием.
Теоретический удар по понятийной строгости, заданной родительской проблематике догматическим контекстом, оказался весьма ощутимым, а методологический регламент ее освоения неочевидным. Все чаще в науке семейного права стали появляться суждения, перешагивающие через базовые юридические знания о родителях, исторически устроенные на антропологической логике биологического родства. Несмотря на то, что отрыв от этой логики обеспечивает весьма непродолжительную научную жизнь единичным теоретико-правовым суждениям о генетических родителях, родителях по намерению или по соглашению, эти суждения привели к тому, что родитель «по происхождению» стал одним «из» всех «других» родителей.
Причина такого неблаговидного научного положения во многом очевидна: спонтанно «обновленные» правовые представления о родителях вошли в науку семейного права не в качестве того знания, которое способно встать в позицию продолжения имеющегося и указать на родовидовые связи с другими родительскими или воспитательными терминами, а в качестве теоретического нагромождения. В таком знании много места занимает описание социальной родительской реальности в терминах естественного языка, дополненное фрагментарными отсылками к нераспознанной его представителями концепции социального родства и порождаемой им «псевдородственной» солидарности. Плюс механически привнесенные социологические выкладки, указывающие на родительский функционал лиц, «занимающих место родителя по намерению» и биомедицинская аргументация в пользу родительского признания для тех лиц, чья репродуктивная судьба была откорректирована с помощью технологий вспомогательного репродуктивного лечения.
Для того, чтобы академично подойти к научному описанию проблемы далее, предпошлем ему краткий подготовительный дискурс, по итогам которого можно будет начать обоснованный обмен смыслами, взглядами и идеями о родителях и родительстве в пространстве семейного права.
Слово «родитель» произошло от латинского глагола parere (производить, рожать, родить). Это этимологическое значение поставило всем законодателям однозначное понимание о том, что правовые нормы, образованные с участием терминов «родитель» и «ребенок», должны быть сконструированы на основе генеалогической модели[100]. Она однозначно указывает на то, что родившийся ребенок должен быть вписан по закону в систему биологического родства родителя, от которого он произошел. Так однозначно интерпретировался термин «родитель» в праве до конца XX в., являясь местом однородности и понятным «сам по себе». В последнем десятилетии XX в. юридические стандарты родительского признания, основанные на браке родителей и биологическом происхождении ребенка или его презумпции, стали тесниться новыми теоретико-правовыми взглядами, которые не только привели к подвижности родительской терминологии, но и изменению юридических представлений о родителях в целом.
Активно ведущиеся в других социальных науках исследования родительской проблематики, цель которых – указать «на те родительские правила, которые в первую очередь отражают запросы общества, а не неизбежную (биологическую или генетическую) истину[101], стали первичными и внешними причинами таких изменений. Многообразные родительские образы, сконструированные в этих науках (социальный родитель, намеренный родитель, психологический родитель и др.), постепенно стали близки и юридическому мышлению, озадаченному проблемой разграничения отношений, возникающих на стадии идентификации родителей по итогам происхождения ребенка и проблемы последующего воспитания ребенка с участием разных третьих лиц.
Свою роль в юридическом восприятии «новых родителей» сыграла общедоступность англо-американских теорий о генетическом, гестационном, преднамеренном, инвестиционном, причинно-следственном родстве и родительстве[102]. Более ранняя встреча этих стран с новыми социальными и репродуктивными событиями и их масштабное социолого-юридическое описание позволили доктрине легализовать то положение, согласно которому «существует не один и не два способа приобретения родительских прав и обязанностей»[103].
Эти влияния «извне» существенно видоизменили традиционный формат родительской проблематики в семейном праве. В качестве заданного и априори известного в научный оборот вошел термин «родительство», следом за ним взявшиеся буквально «ниоткуда» частные взгляды о родительстве позитивном[104], альтернативном[105], квазиродительстве[106], «родителях с усеченным статусом»[107]. Аргументировать правовые основания их вычленения и описать эти разновидности с помощью специальных методов исследования пока не получилось. Они пребывают на уровне монологовых суждений, давая научную жизнь столь же теоретически неприкаянным взглядам о том, что в семейном праве есть такие участники семейных отношений, которые «приравнены в своем статусе к родителям»[108], и те, которые претендуют на родительский статус[109]. Наряду с понятием «родитель» классификационное видение обрели такие категории как родство и происхождение ребенка, все чаще стали легализоваться взгляды о том, что по итогам технологического зачатия у ребенка может быть не два, а более родителей.
Обнаружились и явно несуразные юридические взгляды, продуцирующие мысль о том, что в юридическом смысле родители могут быть разделены на родителей (законных представителей) детей с общим образовательно-правовым статусом; со специальным образовательно-правовым статусом; родителей детей-инвалидов; приемных родителей; патронатных и родителей детей с девиантным поведением[110].
Вся эта новизна привлекла семейно-правовое внимание ученых, оставив «не у дел» то, что было создано усилиями трех поколений ученых. При этом полной юридической ясности в том, по какому теоретическому пути идти в освоении проблемы юридического родительства не возникло. Наличная методология освоения проблемы оказалась зависимой не столько от общих и частнонаучных юридических методов исследования, сколько от интуиции и прагматики авторов. Давая жизнь фрагментарным юридическим суждениям о том, что «окончательный круг участников родительских правоотношений не является очерченным»[111], а «понятие „родитель“ указывает не только на кровное родство»[112], их авторы мало озабочены тем, что они не являются сопоставимыми с тем, что реально отражено в семейно-правовых нормах о происхождении ребенка и родительском признании.
Научных суждений, которые отдалены от академической максимы, согласно которой позитивное право – это не разновидность социального воображения по отношению к фактическим реалиям во всей их детализации и дробности, а построение должного, немало. Несмотря на то, что для теоретико-правовой достройки родительской темы такие знания малопригодны из-за их неспособности перенаправлять знания о родителях «новой волны» в методологически выверенное русло, количественно они продолжают расти. Теоретическим прикрытием для таких взглядов стал термин «родительство». Несмотря на то, что в семейном праве он остается не описанным, это не стало видимым препятствием для его употребления[113]. На взгляд Е. С. Шаховой, понятие, стоящее за ним, «заслуживает того, чтобы быть введенным в текст Конституции РФ»[114]. А. В. Гринева, констатируя факт неопределенности в соотношении этого термина с термином «родитель», утверждает, что «порядок их соотношения необходимо описать»[115].
Как представляется автору, за понятием «родительство» в семейном праве стоит не просто межъязыковой эквивалент, а «большая идея», которой предстоит стать организационной теорией, способной упорядочить, сопоставить, дополнить, систематизировать, различить, обогатить, достроить и тем самым восстановить утраченный научный порядок дискурса. Придание понятию «родительство» собственного теоретико-правового смысла означает движение в сторону обновления дискурсивного пространства стоящей за ним проблематики. И повод для поворота семейно-правового мышления в сторону взаимодействия со смежными семейно-правовыми конструкциями, а также с культурными и политическими идеалами их связывающими.
Одним из основополагающих пунктов при создании такой концепции и пониманием того, что стоит за термином «родительство» в праве являются «анализ и поиск актуальных сущностных характеристик самого понятия „родитель“»[116]. Это действительно так – как и в других областях гуманитарного знания термин «родительство», используемый юристами, является производным от термина родитель.
По утверждению зарубежных социологов, академическим юристам легче заниматься описанием родительства – для них все написано в праве, и им всего лишь надо следовать тому, что в нем задано[117]. Значительная доля истины в этом есть. Нормативный образ родителя по закону, выстроенный за счет совокупности элементов, извлеченных из классической антропологии (происхождение и родство); системы правовых норм, регулирующих брак; публичных норм о родительском признания (установление происхождения детей); отношений по совместному воспитанию ребенка путем осуществления родительских прав и обязанностей – значимый информативный источник для теоретико-правовых воззрений. Он указывает на метасистему правил, существование которых сообщает о том, что в отличие от всех других отраслей научного знания родительство в праве явление институциональное.
Основополагающим «родительским правилом» является то, которое представлено нормами о происхождении ребенка. Исторически данные нормы выполняют роль сквозной линии в регулировании детско-родительских отношений и одновременно фиксируют момент их включения в сферу семейно-правового регулирования. Таким моментом, по общему правилу, является факт деторождения, следствием которого является установление происхождения ребенка и закрепление родительских статусов. Для права, как известно, статус законного родителя является юридически значимым и не предполагает той подвижности и неофициальности, которая в других науках сопутствует лицам, именуемым родителями по занимаемому «месту», «положению», «позиции» или выполняемой «функции» и «роли».
Несмотря на то, что знание о происхождении ребенка являются основополагающими для целого ряда других институтов семейного права, современная наука семейного права весьма мало занимается ее описанием. Традиционно в качестве проблематичного заявляется дискурс об установлении происхождения ребенка, который ограничен обсуждением критериев. В то время как базовые идеи, предрешившие наличную систематику норм о происхождении ребенка, в науке семейного права не обсуждаются. Тем самым ослабляется отправная нормотворческая идея, согласно которой происхождение ребенка – это не социальный, а генеалогический конструкт, ориентированный на биологическое происхождение ребенка или презумпцию такого происхождения.
Императивными компонентами юридической темы родительства является также идентификация родительского положения и по его итогам регистрация статуса при условии, что по итогам установленного происхождения ребенка родители согласны взять на себя обязательства по его содержанию и воспитанию. Момент согласия в данном суждении не относится к второстепенным. Он важен для последующей аргументации о том, что законодатель не ориентирован на принудительное приписывание родительских прав и обязанностей и их осуществление[118].
Юридическим маркером родительского статуса являются родительские права и обязанности. Они зафиксированы в нормах семейного права с предположением о том, что статус родителя и родительские права и обязанности – юридически связанные категории. Эта самая неразрывность исключает возможность приписать родительские права и обязанности тем лицам, которые не являются носителями родительского статуса.
Понятийные и нормативные особенности того, что в праве стоит за термином родитель, вполне естественно вносят специфику и в производный от него термин «родительство». Этот термин не может быть принят в науке семейного права просто за межъязыковой эквивалент, привнесенный из других гуманитарных дисциплин. Как указывают мэтры терминоведения, «за термином всегда стоит предмет мысли, но не мысли вообще, а специальной мысли, ограниченной определенным полем»[119]. В нашем случае речь идет о поле юридическом. Соответственно, родительство для права – это место нормативности, где на него работает собственная юридическая среда, в которой формально-логическая сторона служит границей между юридическим знанием о родителях и иным знанием об этих лицах, где допустимы разные альтернативы.
На этом фоне явным становится тот факт, что деление родителей и родительства на виды в пространстве семейного права по разным искусственно привлеченным социальным основаниям, это не более чем теоретические условности, не согласованные с нормативным контекстом. Воспроизведению этих условностей обычно не сопутствует скрупулезное и логическое научное описание, где есть методологическая разборчивость и стремление следовать заглавным идеям, положенным в систематику родительского права.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Купцова О. В. Семейно-правовой статус родителя: отдельные вопросы теории и практики // Семейное и жилищное право. 2021. № 1. С. 3–6.
2
Кокова Д. А. Содержание семейных правоотношений: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 8.
3
Краснова Т. В. Государственная семейная политика и правовой статус родителей: проблемы совершенствования семейного законодательства // Право и политика. 2015. № 11. С. 1513.
4
О противопоставлении этих понятий см.: Гринева А. В. Родительство и родители как семейно-правовые категории // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «История и право». 2022. Т. 12. № 4. С. 40.
5
Мананкова Р. П. Основные тенденции развития науки частного права в современной России // Вестник Томского государственного университета. Серия «Право». 2022. № 45. С. 195.
6
Зорькин В. О том, каковы юридические уроки предыдущих попыток модернизации России // Российская газета – Федеральный выпуск. 2010. № 138 (5217).
7
Fuller L. The Law in Search of Itself. Boston, 1940 // URL: https://archive.org/details/lawinquestofitse0000unse/page/130/mode/2up.
8
О ценности методологического инструментария в науке семейного права см.: Левушкин А. Н. Методология науки семейного права в системе методологии юридической науки // Роль и значение юридической науки в развитии общества: сб. материалов круглого стола (11 декабря 2015 г.). М.: Проспект, 2016. С. 116–125; Левушкин А. Н., Чепурная К. А. Методология исследования брачно-семейных отношений // Юридическая наука и практика. 2016. Т. 12. № 1. С. 73–78; Косенко Е. В. Методология семейного права: монография / под ред. Н. А. Баринова. Саратов: Наука, 2014. Гл. 4; Мананкова Р. П. О методологии юридической науки // Вестник Томского государственного университета. Серия «Право». 2021. № 42. С. 170–176.
9
Жоль К. К. Логика: учебное пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 2004. С. 12–78; Ивин А. А. Логика для юристов: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2023. Серия «Высшее образование»; и др.
10
Применительно к семейно-правовым исследованиям подробнее об общенаучных методах см.: Косенко Е. В. Средства и методы научного познания семейного права // Вестник Пермского университета. Серия «Юридические науки». 2015. № 3 (29). С. 107–115.
11
Климова С. В. Социологическая экспертиза статуса семейного права в системе российского права // Семейное и жилищное право. 2007. № 5. С. 23–27; Терехина С. А., Ошевский Д. С. Проблема использования психологических познаний при решении семейных споров о детях в гражданском судопроизводстве // Психология и право. 2018. Т. 8. № 2. С. 152–163; Шахова Е. С. Проблемы правового регулирования родительских правоотношений: сравнительно-правовой аспект семейного законодательства России, Украины и Белоруссии // Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 6 (69). С. 221–231; Иванова Н. А. Междисциплинарный подход в изучении и решении проблем совершенствования семейного законодательства // Государственно-правовые исследования. 2020. № 3. С. 347.
12
Шахова Е. С. Проблемы правового регулирования родительских правоотношений: сравнительно-правовой аспект семейного законодательства России, Украины и Белоруссии. С. 221–231.
13
Гражданское уложение. Книга вторая. Семейственное право. Том 1. С. 1–349. С объяснениями. СПб, 1902. С. IV.
14
Арсланов К. М. Конвергенция российского и германского опыта гражданско-правового регулирования: история, современность и перспектива: дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2020. С. 367.
15
Kahn-Freund O. On Uses and Misuses of Comparative Law // Modern Law Review. 1974. Vol. 37. № 1 // URL: https://www.sci-hub.ru/10.1111/j.1468–2230.1974.tb02366.x.
16
Белов В. А. Гражданское право. Т. 1: Общая часть. Введение в гражданское право: учебник для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016. Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». С. 94.
17
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г.» // URL: http://www.pravo. gov. ru.
18
Малиновский А. А. Методология сравнительного правоведения // Вестник университета им. О. Е. Кутафина. 2016. № 3. С. 13; Гааг Л. В. Сравнительное правоведение: учебно-методический комплекс. Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2020. С. 8. Серия «Библиотека магистранта»; и др.
19
Zweigert K., Kötz H. Einfuhrung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. 3. Aufl., Tübingen: J. C. B. Mohr Verlag (Paul Siebeck), 1996. XVII. S. 100.
20
См. Аналитический обзор, проведенный научной службой немецкого парламента о состоянии законодательства, направленного на регулирование отношений родителей и детей в разных странах: Gesetzliche Regelungen der Elternschaft Ein Überblick über Regelungen der Elternschaft und die Möglichkeit einer Mehrelternschaft in verschiedenen Rechtsordnungen. 2018 // URL: https://www.bundestag.de/resource/blob/585678/34e06f29abb83eb4f3ecec7f13507408/WD-7-146-18-pdf-data.pdf.
21
Актуальные данные о динамике семейных процессов в цифровом значении см.: Гурко Т. А. Развитие института родительства: анализ эмпирических показателей // Женщина в российском обществе. 2022. № 4. С. 3–14.
22
Helmholtz R.-H. Continental Law and Common Law: Historical Strangers or Companions? // Duke Law Journal. 1990. № 6. Р. 1027–1228; Samuel V. G. System und Systemdenken – Zu den Unterschieden Zwischen Kontinentaleuropäischen Recht und Common Law // Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. 1995. № 3. Р. 375.



